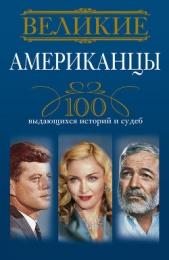Вашингтонская площадь

Вашингтонская площадь читать книгу онлайн
Трудную задачу предстоит решить героине романа "Вашингтонская площадь" (1880) — одного из самых заметных произведений классика американской литературы Генри Джеймса (15.04.1843 — 28.11.1916). Извечный женский вопрос о том, действительно ли любимый готов отдать ей свое сердце, стал вопросом жизни и смерти для юной, неискушенной девушки, жаждущей любви и счастья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мысль о том, что он произвел на свет самое заурядное существо, порой вызывала у доктора чрезвычайную досаду; иногда он даже находил известное удовлетворение в том, что жена его не дожила до этого позорного открытия. Доктор и сам пришел к нему не сразу, а окончательное мнение о дочери составил лишь, когда Кэтрин выросла. Доктор долго ждал, что она проявит себя, и не спешил с заключениями. Миссис Пенимен постоянно восхищалась характером Кэтрин, но доктор умел правильно истолковать восхищение сестры. Оно объяснялось, по его мнению, просто-напросто тем, что у Кэтрин недоставало ума, чтобы разглядеть, какая недалекая особа ее тетка, и ограниченность племянницы, естественно, была по душе миссис Пенимен. Однако и она, и ее брат преувеличивали ограниченность девушки; Кэтрин любила тетушку, знала, что должна быть ей благодарна, но относилась к ней без малейшей примеси того почтительного страха, который заставлял ее благоговеть перед отцом. Способности миссис Пенимен представлялись Кэтрин довольно скромными: она способна была охватить их мысленным взором, и видение это ее отнюдь, не ослепляло; а вот удивительные дарования отца терялись для нее в какой-то светозарной перспективе, но и там не обрывались — просто взор Кэтрин был уже не в состоянии их обнять.
Не надо думать, будто доктор Слоупер вымещал на дочери свое разочарование или давал ей почувствовать, насколько она обманула его ожидания. Напротив, боясь оказаться к ней несправедливым, он с примерным старанием исполнял отцовский долг и признавал, что дочь у него преданная и любящая. К тому же доктор был философ: он выкурил великое множество сигар, размышляя о своей неудаче, и в конце концов смирился с ней. Он убедил себя в том, что и не рассчитывал ни на что другое; его рассуждения отличались, впрочем, некоторой странностью. "Я ни на что не рассчитываю, — говорил он себе, — и, стало быть, если дочь меня чем-то приятно удивит, я только выиграю; а если не удивит, я ничего не потеряю". Кэтрин в то время исполнилось восемнадцать лет, так что скороспелыми выводы ее отца назвать нельзя. В этом возрасте девушка, кажется, не только не могла уже никого удивить, но и сама как будто потеряла способность удивляться, — такая она была тихая и безучастная. Люди, склонные выражаться однозначно, называли ее флегматичной. Но безучастность ее объяснялась застенчивостью, ужасной, мучительной застенчивостью. Окружающие не всегда это понимали, и девушка подчас казалась им бесчувственной. На самом деле она была нежнейшим существом.
3
Поначалу Кэтрин как будто обещала стать высокой, но в шестнадцать лет она перестала расти, и в росте ее, как и во всей ее внешности, не было ничего примечательного. При этом она была крепка, правильно сложена и, по счастью, отличалась завидным здоровьем. Как уже говорилось, доктор был по природе философ, однако если бы бедняжка оказалась больным и несчастным ребенком, едва ли он сумел бы отнестись к этому философски. Здоровая внешность составляла основу ее привлекательности; воистину удовольствие было видеть ее свежее лицо, в котором гармонично сочетались белизна и румянец. Глаза у Кэтрин были небольшие и спокойные, черты лица довольно крупные, а свои гладкие каштановые волосы она заплетала в косы. Строгие ценители женской красоты считали ее внешность скучной и простоватой; судьи с более живым воображением отзывались о Кэтрин как о девушке скромной и благородной; ни те, ни другие не оказывали ей особого внимания. Когда после долгих усилий Кэтрин наконец внушили, что она уже взрослая, она вдруг принялась энергично наряжаться; иначе, как «энергично», тут и не скажешь. Говорить об этом мне хочется вполголоса, так как ее вкус в одежде был далеко не безупречен; он хромал и спотыкался. Увлеклась она нарядами потому, что ее не слишком речистая натура требовала хоть какого-то внешнего проявления. Кэтрин пыталась одеваться выразительно — яркостью наряда восполнять недостаток красноречия. Она говорила языком своих туалетов; и если окружающие находили ее не очень остроумной, то, право, не следует винить их в этом. Приходится добавить, что, хотя ее ожидало большое наследство (доктор Слоупер давно уже зарабатывал по двадцать тысяч в год, причем половину откладывал), в ее распоряжении были пока очень скромные средства — не больше, чем у многих девушек из менее состоятельных семейств. В те дни в Нью-Йорке еще теплился огонек на алтаре республиканской простоты, и доктор Слоупер был бы рад видеть свою дочь классически изящной жрицей этого мирного культа. Лицо его искажалось гримасой при мысли, что его дочь не только некрасива, но еще и разодета в пух и прах. Сам доктор любил попользоваться благами жизни и вовсе себе в них не отказывал, но как огня боялся пошлости, которая, по его теории, заполонила современное ему общество. Притом, хотя за тридцать лет представление о роскоши в Соединенных Штатах сильно изменилось, ученый доктор Слоупер придерживался старинных взглядов на воспитание. Не то чтобы у него имелась на этот счет какая-то особая теория — в то время еще не требовалось вооружаться набором теорий. Просто он считал, что хорошо воспитанной молодой женщине неприлично навьючивать на себя половину своего состояния. Комплекция позволяла Кэтрин навьючить на себя довольно много; однако ей было не под силу нести тяжесть отцовского осуждения, и лишь в двадцать лет она решилась завести себе для выходов вечернее платье пунцовое, атласное, с золотой оторочкой; между тем не один год она втайне мечтала о нем. Платье это старило ее лет на десять, но, как ни странно, при всей своей любви к туалетам Кэтрин была лишена кокетства и ее не беспокоило, как она будет в них выглядеть; ей важно было, чтобы понравился ее наряд. История не сохранила точного свидетельства, но вполне допустимо сделать следующее предположение: именно в вышеописанном роскошном туалете Кэтрин явилась на небольшой бал, устроенный ее теткой, миссис Олмонд. Девушке шел уже двадцать первый год, и вечер у миссис Олмонд был началом чего-то очень значительного.
Тремя или четырьмя годами раньше доктор Слоупер переместил свой домашний очаг в северную часть Нью-Йорка. Со времени женитьбы он жил в кирпичном доме с гранитными парапетами и огромным веерообразным окном над входной дверью; дом стоял в пяти минутах ходьбы от ратуши, на улице, расцвет которой (в социальном смысле) приходился примерно на 1820 год. Затем мода покатила дальше на север — больше ей в узком русле Нью-Йорка двигаться было некуда, — и улицы направо и налево от Бродвея загудели от прохожих и проезжих. Когда доктор решил переменить резиденцию, шум торговцев превратился уже в могучий рев, который радовал слух добрых жителей Манхэттена, любивших свой удачливый остров и болевших за успешное развитие на нем того, что они со вкусом называли «коммерцией». Доктора Слоупера это явление интересовало лишь косвенно (хотя он мог бы отнестись к нему и с большим интересом — ведь половину его пациентов теперь составляли утомленные делами бизнесмены), и, когда почти все соседние дома — тоже украшенные гранитными парапетами и веерообразными окнами превратились в купеческие конторы, товарные склады и перевозные агентства или были как-нибудь иначе приспособлены для низменных нужд коммерции, доктор решил приискать себе местечко потише. Идеалом тихого, пристойного убежища была в 1835 году Вашингтонская площадь, где доктор и выстроил себе красивый дом в новом стиле, с широким фронтоном, с большим балконом перед окнами гостиной и с выложенным мрамором крыльцом, на которое вели белые и тоже мраморные ступени. Дом доктора и весьма похожие на него соседние здания считались в то время — сорок лет назад — последним словом зодческого искусства и по сей день остаются надежными, достойными жилищами. Дома глядели на площадь, в центре которой росла пышная и недорогая зелень, окруженная деревянной оградой, которая придавала скверу еще более сельский, непритязательный вид; за углом же начиналась не в пример более величественная Пятая авеню — улица размашистая и самоуверенная, уже сознававшая свое великое будущее. Не знаю почему может быть, в силу каких-то ассоциаций молодости, — но многим людям эта часть Нью-Йорка и сейчас кажется самым симпатичным местом в городе. Она дышит покоем, какого не найдешь в других частях вытянувшегося, шумного Нью-Йорка. По сравнению с северными кварталами грандиозной Пятой авеню. Вашингтонская площадь имеет гораздо более солидный, богатый, достойный облик — облик, предполагающий исторические корни. Быть может, вам говорили знающие люди, что именно тут вы появились на свет (*3) — пришли в мир, полный интересных и разнообразных явлений; именно тут в почтенном одиночестве доживала свои дни ваша бабушка, визиты к которой в одинаковой мере возбуждали и воображение внуков, и их аппетит; именно здесь вы впервые шагнули за порог своего дома и нетвердыми шажками пустились вслед за няней, вдыхая странный запах китайского ясеня, который в ту пору преобладал здесь над другими ароматами и к которому вы лишь много позже научились относиться с неприязнью (вполне заслуженной); именно здесь, наконец, круг ваших наблюдений и переживаний стал расширяться в вашей первой школе, которую держала дородная пожилая дама с линейкой, вечно пившая чай из синей чашки с блюдцем от другого сервиза. Во всяком случае, именно здесь провела много лет своей жизни моя героиня; отчего я и позволил себе это топографическое отступление.