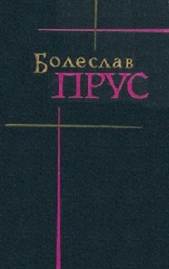Том 2. Повести и рассказы
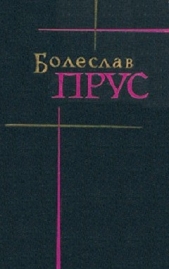
Том 2. Повести и рассказы читать книгу онлайн
Александр Гловацкий, получивший известность под литературным псевдонимом Болеслав Прус, был выдающимся мастером польской реалистической прозы. В представленном собрании сочинений представлены его избранные произведения. В первый том вошли повести и рассказы.
СОДЕРЖАНИЕ:
ЖИЛЕТ. (1882) Рассказ. Перевод с польского В. Арцимовича.ГРЕХИ ДЕТСТВА. (1883) Повесть. Перевод с польского Е. Рифтиной.ГОЛОСА ПРОШЛОГО. (1883) Рассказ. Перевод с польского М. Абкиной.ЭХО МУЗЫКИ. (1880) Рассказ. Перевод с польского М. Абкиной.НА КАНИКУЛАХ. (1884) Рассказ. Перевод с польского В. Ивановой.ТЕНИ. (1885) Рассказ. Перевод с польского Н. Крымовой.ОШИБКА. (1884) Повесть. Перевод с польского М. Абкиной.ПРИМИРЕНИЕ. (1883) Рассказ. Перевод с польского Ю. Мирской.АНЕЛЬКА. (1880) Повесть. Перевод с польского М. Абкиной и Н. Подольской.ФОРПОСТ. (1885) Повесть. Перевод с польского Е. Рифтиной. Примечания E. Цыбенко.Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Простите! — перебил певца бургомистр. — Выгляни-ка на улицу, пан секретарь, — не подслушивает ли кто под окном.
Секретарь заверил его, что никто не подслушивает, и кассир, подыгрывая себе на гитаре, снова запел:
Тут средняя дочь бургомистра подтолкнула старшую.
— Это он про тебя, Ядзя, — шепнула она.
— Меця! — краснея, остановила ее сестра.
Когда кассир допел эту песню, его попросили спеть еще что-нибудь. Последовала новая «прелюдия» и затем песня:
— Когда скажешь, что сын не воротится… — повторила майорша дрожащим голосом. — Ах, какая песня прекрасная!
А панны шумно требовали, чтобы кассир спел еще «Летят листья».
Кассир ударил по струнам, снова откашлялся и запел, несколько понизив голос:
В комнате было тихо, как в костеле, слышны были только всхлипывания старой майорши. Вдруг бургомистр схватился за голову.
— Извините! Выгляни-ка опять во двор, пан секретарь, — не стоит ли тот под окном…
Секретарь выбежал из комнаты, все гости стали перешептываться. Но во дворе не оказалось никого.
— Ну, теперь я вам спою кое-что строго запрещенное, — объявил кассир.
— Побойся бога, человече! — всполошился бургомистр. — Не губи ты нашей почтенной и столь гостеприимной хозяйки! — Он указал на мою мать.
Но мать беспечно махнула рукой.
— Э, пусть делают, что хотят. Только одно утешение нам и осталось — послушать иной раз хорошую песню.
— Вас-то, может, и не тронут, — сказал бургомистр. — Но здесь присутствует его преподобие, он — лицо официальное…
— Я боюсь только одного бога, — буркнул ксендз.
— Наконец, здесь я, бургомистр! И если я пострадаю, кто заменит моим детям отца?
— Ну, ну, бояться нечего, — сказал ксендз. — Никогда я не замечал, чтобы тот подслушивал под окнами.
— Ему нет надобности ходить под окнами — ведь его дом в трех шагах отсюда, — не сдавался расстроенный бургомистр.
— А до почты от его дома только верста и двести саженей, — вставил почтмейстер.
— Так ты хотя бы пой тихонько, не ори во все горло, — сказал бургомистр кассиру.
— Что за выражения, папа! — возмутилась старшая дочь бургомистра. — Ну, можно ли говорить так про это чудное пение?
— Видно, наш пан бургомистр метит уже в уездные начальники, — съязвил кассир. — Не бойтесь, не бойтесь! Если кому суждено пасть жертвой, то прежде всего мне…
— И падешь и падешь! — горячился бургомистр. — Это самый отчаянный революционер во всем городе! — тихо сказал он ксендзу.
Довольный публичным признанием его революционных заслуг, кассир вытянул ноги так, что они казались еще тоньше обычного, и, вперив взор в старшую дочку бургомистра, запел вполголоса:
— Чудесно! — воскликнули хором панны, глядя на вращавшего глазами кассира.
— Кто это сочинил? — с беспокойством осведомился бургомистр.
— Мицкевич, — отвечал кассир.
— Ми-цке-вич?! Ну, уж извините, я ухожу! — Бургомистр ударил себя в грудь. — Мне еще слишком много нужно сделать для родины, и я не хочу сгинуть из-за каких-то стишков.
— А что вы видите опасного в этой песне? — с сердцем спросил ксендз.
— Что? Да вы это знаете не хуже меня, — отрезал бургомистр. — А мотив? Да если бы эту мелодию заиграл военный оркестр, так я бы первый вышел на площадь в алой конфедератке. Да! И пусть бы меня тогда расстреляли, зарубили, растоптали…
— С ума ты сошел, Франек?! — воскликнула жена бургомистра.
— Да, таков уж я! — не слушая ее, кричал раскипятившийся бургомистр. — Если, не дай бог, будет война, все наши здешние удальцы разбегутся по углам. А я покажу, на что я способен.
— Полно, Франек! Да ты не в себе, право! — унимала его жена.
— Не беспокойся, я в полном рассудке. И хочу, чтобы все вы знали, до чего я могу дойти, когда меня разозлят! Я — как бомба: пока она лежит спокойно, ее хоть ногой пинай — и ничего. Но стоит искре ее коснуться, и… спасайся, кто может!
Говоря это громко и взволнованно, бургомистр волчком вертелся между стульями. Но, насколько мне помнится, его грозное мужество не произвело на присутствующих никакого впечатления. Ксендз все помахивал рукой около уха, а кассир небрежно бренчал что-то на гитаре, словно в такт выкрикам бургомистра. Только моя мать одобрительно кивала головой, а заплаканная майорша, кажется, задремала под бурный поток его слов.
— Однако, господа, пора и по домам, — сказал почтмейстер. — Десять часов.
— Неужели? — удивился кассир. Для него, когда он пел, время летело незаметно.
Словно в ответ, кукушка на часах прокуковала десять раз. Дамы пришли в ужас, узнав, что уже так поздно, и дружно собрались уходить.
Когда няня уложила меня и погасила свечу, передо мной снова, как на яву, встало все, что происходило в гостиной сегодня вечером: я увидел подвижную фигурку пана бургомистра, и желтые ленты на чепце майорши, и почтмейстера, и секретаря, и всех панн. Гости шумно суетились, разговаривали, пели, а бургомистр пугал их своей отчаянной смелостью, кассир играл на гитаре, все было совсем как в действительности, но с той только разницей, что среди гостей я видел какую-то тень, — должно быть, это был тот человек, кого секретарь тщетно искал во дворе под окном. Я хотел указать на него матери, но не в силах был поднять руку. А тень между тем сновала и сновала по комнате, бесшумная, неуловимая, и никто, кроме меня, не замечал ее.
Потом все исчезло, а когда я открыл глаза, то увидел у печки няню Лукашову, которая, улыбаясь беззубым ртом, говорила:
— Ага, проснулся! Небось уже новые проказы на уме!
Было утро. Я и не заметил, как уснул вчера и проспал всю ночь после веселого вечера.
В середине марта был мой день рождения, мне пошел восьмой год. За неделю перед тем сапожник Стахурский снимал с меня как-то утром мерку, чтобы сшить мне первые сапоги. И как раз в ту минуту, когда я снял с ноги башмак, чтобы подвергнуться этой операции, к нашему дому подкатил почтовый возок, и из него вылез какой-то юноша, который, как оказалось, привез маме письмо от моего старшего брата.
Фамилии приезжего я так и до сих пор не знаю, а звали его Леон. Это был юноша лет двадцати, писаный красавец, веселый и удивительно приветливый — он так и льнул ко всем. У мамы он при первой встрече поцеловал обе руки и так много рассказал ей о брате, что она пригласила его погостить у нас несколько дней. Не успел еще пан Стахурский снять с меня мерку на сапоги, как приезжий уже подружился с ним, да так крепко, что обещал даже побывать у него в мастерской. Затем Леон отправился в братнину комнату в мансарде и за несколько минут, видимо, успел очаровать Лукашову, которая отнесла туда его чемодан, — няня моя целый день не переставала говорить о молодом госте. Пану Добжанскому, когда он пришел на урок, Леон поднес неслыханно дорогую сигару, мне, пока я занимался, выстругал из дерева ветряную мельницу, а маме открыл секрет приготовления домашнего пива.