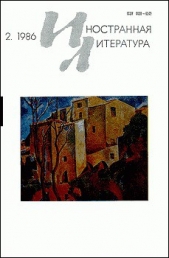Смерть — мое ремесло

Смерть — мое ремесло читать книгу онлайн
Эта книга — обвинительный акт против фашизма. Мерль рассказал в ней о воспитании, жизни и кровавых злодеяниях коменданта Освенцима нацистского палача Рудольфа Ланга.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лейтенант взглянул на него и тихо воскликнул:
— Да ведь это Генкель!
Он помолчал, покачал головой, торопливо произнес: «Какая жалость, такой хороший солдат!» — и, вскочив на мотоцикл, запустил мотор и уехал. Рабочие проводили его взглядом. Когда он исчез за углом, они, не дожидаясь моего приказа, поднялись. Ясно, что они все поняли.
Я поставил двух своих людей впереди колонны, двух — по бокам, а сам замкнул колонну. Генкель оказался один в последнем ряду, прямо передо мной. Я скомандовал, и колонна двинулась. Несколько метров рабочие машинально шли в ногу, затем двое или трое из них, почти одновременно, сбились. Все зашагали вразброд. Я понял, что они делают это нарочно. Правый конвоир обернулся и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Конвоир усмехнулся, тоже пожал плечами и отвернулся.
Генкель немного отстал от колонны. Теперь он шел рядом со мной, справа. Он был очень бледен и смотрел прямо перед собой. Вдруг я услышал, что кто-то напевает тихим голосом. Я повернул голову: губы Генкеля шевелились. Я приблизился к нему, он метнул на меня взгляд, губы его снова зашевелились, и я услышал тихое бормотание: «Мы последние немецкие солдаты, стоящие лицом к лицу с врагом.» Я чувствовал, что он смотрит на меня, и нарочно немного задержал шаг. Мы прошли еще несколько метров. Краем глаза я видел, как Генкель, нервно вскидывая голову, то и дело смотрит куда-то вперед и направо. Я проследил его взгляд, но ничего не заметил, кроме улочки, вливавшейся в нашу. Генкель еще немного отстал от колонны и теперь уже шел чуть ли не позади меня. Он глухо и настойчиво напевал себе под нос: «Мы последние немецкие солдаты...» Я не решался сказать ему, чтобы он шел быстрее, и молчал. В это время слева от меня загрохотал трамвай. Машинально я повернул голову в его сторону. В тот же миг справа раздался топот, я обернулся — Генкель убегал. Он уже почти достиг угла улочки, когда я вскинул винтовку и выстрелил: он дважды перекувырнулся и упал навзничь.
Я крикнул: «Стой!» Колонна остановилась, и я побежал к Генкелю. Тело его судорожно подергивалось, глаза неотрывно смотрели на меня. Подбежав поближе, я, не прикладывая винтовки к плечу, выстрелил, целясь ему в голову. Пуля угодила в тротуар. В двух шагах от меня из дома вышла женщина. Она остановилась как вкопанная на пороге и в ужасе замерла. Я выстрелил еще дважды, но все мимо. Пот стекал у меня по шее, руки дрожали. Генкель не сводил с меня глаз. Я приставил дуло к его бинту, тихо сказал: «Извини, друг!» и нажал курок. Потом я услышал пронзительный крик и обернулся: закрыв руками в черных перчатках лицо, женщина дико кричала.
После Рура я сражался еще в Верхней Силезии, где мы подавляли восстание поляков. Им помогала исподтишка Антанта. Поляки пытались отторгнуть от Германии некоторые земли, отошедшие к нам в результате плебисцита. Добровольческие части доблестно изгнали поляков. Новая демаркационная линия, установленная межсоюзнической комиссией, закрепила успех, достигнутый нашими частями. «Последние немецкие солдаты» сражались не напрасно.
Тем не менее вскоре мы узнали, что немецкая республика в благодарность за защиту восточной границы, подавление восстания спартаковцев и возвращение Германии двух третей Верхней Силезии выбрасывает нас на улицу. Добровольческие части распустили. Недовольных арестовывали, грозили тюрьмой. Меня демобилизовали, вернули мне мою штатскую одежду, в том числе и пальто дяди Франца, и я вернулся в Г.
Я пошел навестить фрау Липман и сообщил ей о смерти Шрадера. Она долго рыдала и позволила мне у нее ночевать. Потом она взяла в привычку поминутно входить в мою комнату и говорить со мной о Шрадере. В заключение она утирала слезы и, помолчав немного, разражалась вдруг воркующим смехом, начинала приставать ко мне, говорила, что она сильнее меня и может положить меня на лопатки. Я не отвечал на вызов, и тогда она пыталась доказать мне это на деле. Я старался вырваться из ее рук, а она сжимала меня все сильнее и сильнее. Мы катались по полу, дыхание ее становилось прерывистым, груди и бедра прижимались к моему телу. Мне это было противно и в то же время нравилось. Наконец мне удавалось высвободиться. Она подымалась вся красная, потная и смотрела на меня с яростью. Иногда она разражалась руганью и несколько раз даже пыталась поколотить меня. Наконец я тоже приходил в ярость и отвечал ударом на удар. Она цеплялась за меня, и все начиналось снова.
Однажды вечером она принесла бутылку водки и пиво. Весь этот день я бегал в поисках работы. Я был огорчен и устал. Фрау Липман принесла мясо. То и дело она наполняла мой стакан. Сама она тоже пила. Когда я насытился, она начала вспоминать о Шрадере, плакать и пить водку. Потом предложила бороться, обхватила меня, и мы вместе покатились на пол. Я велел ей убираться из моей комнаты. Она захохотала, как сумасшедшая: она, мол, у себя и покажет мне, кто здесь командует. Снова началась схватка. Потом она все чаще стала прикладываться к стакану с водкой, подливать в стакан мне и плакать. Она вспоминала своего покойного мужа, Шрадера, другого жильца, который жил у нее до Шрадера, и все время повторяла, что Германии капут, всему капут, и религии тоже. Никакой морали больше нет, и марка теперь ничего не стоит. Что касается меня, то она хорошо относится ко мне, но я какой-то совершенно бессердечный. Говорил же Шрадер, что я «дохлая селедка», и он был прав. Я ничего и никого не люблю. Завтра же она обязательно выкинет меня на улицу. Потом, выпучив глаза, она принялась кричать: «Вон, убирайся вон!» — и, набросившись на меня, стала бить, царапать, кусать. Опять мы покатились на пол, и она навалилась на меня так, что чуть не задушила. У меня закружилась голова. Мне казалось, что я борюсь с этой фурией уже многие часы. Я переживал какой-то кошмар и не соображал уже ни где я, ни кто я. Мною овладело бешенство. Я набросился на нее, избил и овладел ею.
На следующий день ранним утром я выскользнул, как вор, из дома и сел на поезд, идущий в М.
1922 год
В М. я работал сначала землекопом, потом подсобным рабочим на заводе, посыльным, продавцом газет. Но долго на одном месте я не задерживался и все чаще и на все более длительные периоды шел пополнять огромную армию немецких безработных. Я заложил часы, спал в ночлежках, голод стал для меня привычным явлением. Весной 1922 года на мою долю выпала невероятная удача — мне удалось устроиться подсобным рабочим на строительстве моста. Работа была рассчитана на три месяца. И, следовательно, в течение трех месяцев, если только марка еще больше не обесценится, я мог быть почти уверен, что буду обедать хотя бы через день.
Сначала я разгружал вагоны с песком. Это была тяжелая работа, но в перерыве между двумя лопатами я по крайней мере мог иногда отдышаться. К сожалению, через два дня меня перебросили на бетономешалку. Не прошло и часа, как я с ужасом подумал, что здесь я, пожалуй, не выдержу. Вагончик привозил нам песок и высыпал его позади транспортера. Вчетвером мы должны были безостановочно засыпать песок лопатами на транспортер, который подавал его в бетономешалку. Бетономешалка неумолимо вертелась, поглощая смесь, и нельзя было терять ни секунды. Как только лента транспортера хоть немного обнажалась, мастер начинал орать на нас.
Мне казалось, будто меня самого затянуло транспортером. Над нашими головами непрестанно гудел электрический мотор. Наш бригадир — его звали Зиберт — время от времени брал мешок с цементом, надрывал его и высыпал содержимое в воронку. Цементная пыль облаком окутывала нас, прилипала к телу, слепила глаза. Я работал лопатой, ни на минуту не останавливаясь. Ноги у меня дрожали, поясницу ломило, я задыхался, и мне никак не удавалось перевести дух.
Мастер дал свисток, и кто-то вполголоса произнес:
— Двенадцать часов пять минут. Эта свинья опять украла у нас пять минут.
Я отбросил лопату, сделал, покачиваясь, несколько шагов и растянулся на куче щебня.
— Плохо себя чувствуешь, парень? — спросил Зиберт.