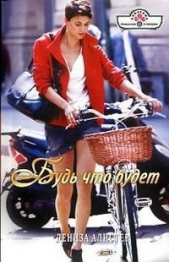Трианская долина

Трианская долина читать книгу онлайн
В путешествии сердце жаждет романтики, приключений; оно быстрее раскрывается для нежных чувств; прекрасный пол и его прелести, как выразился бы дамский угодник, более чем когда-либо представляются достойными поклонения; а поскольку в этих случайных путевых встречах никакое серьезное намерение или брачные расчеты обычно не сдерживают, наподобие полезного балласта, полет чистого чувства, чувство это немедленно воспаряет на головокружительную высоту. И не только сердце ваше ведет себя в пути подобным образом, но и встреченная молодая особа приобретает в этих обстоятельствах известные достоинства, каких она не могла бы иметь в гостиной...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сидя на том же гранитном валуне, я предался горьким размышлениям о лицемерной тирании отцов, которой часто некстати способствует слишком уж ангельская кротость дочерей. Тут мимо меня прошел другой караван, к которому я примкнул за неимением лучшего, а также затем, чтобы отвлечься от сердечных мук.
Группа эта состояла из трех пешеходов и мула, нагруженного камнями. Господа эти были геологами. Геологи – очаровательные спутники, но главным образом для геологов. Им свойственно останавливаться у каждого камня и рассуждать по поводу каждого пласта земли. Они откалывают куски скал и уносят их с собой; они скребут землю и всякий раз строят на этом теорию Все это занимает массу времени. Они не лишены воображения, но оно простирается лишь в морские глубины и земные недра; на поверхности земного шара оно иссякает. Покажите им великолепную вершину – для них это вздутие земной коры; покажите лощину, заполненную льдом – они усмотрят в этом действие огня; покажите лес – тот их вообще не касается. На полпути Валорсину несчастный обломок 'скалы, на который я присел отдохнуть, привел моих трех геологов в волнение; пришлось немедленно встать и предоставить им мое сиденье. Пока они его крошили, я потихоньку удалился и они потеряли меня из виду.
Sic me servavit Apollo! [1]
Впрочем, если я порой избегаю геологов, то геологию я неизменно люблю. Зимою у камелька особенно приятно послушать о чудесных горах, которые ты посетил летом, о потопах, извержениях вулканов, о горообразовании, о разрушительных силах природы, но главное – об ископаемых животных! Когда разговор заходит об этих ископаемых, я всякий раз перевожу его на мастодонта – кто его открыл не помню – или на мегалозавра Кювье [2]; это такая ящерица длиною в сотню футов, от которой до нас дошли только кости. Вообразите себе, как это царственное животное разгуливало по первозданному миру и кормило свое семейство слонами вместо мошкары! Да здравствуют иллюстрированные журналы [3], они популяризируют науку! именно так и усвоил я геологию.
Но даже и без подобных иллюстраций все мы немного геологи. Кто при виде чудес горного края не задается вопросами о том, как разверзлись эти пропасти, как вознеслись к небу эти вершины, и как образовались плавные линии склонов и вздыбленные утесы; откуда взялись эти гранитные колоссы, нависшие над равниной, или остатки морских раковин в недрах гор? Все эти вопросы – чистейшая геология, элементарная и вместе с тем трансцендентная. Именно их задают себе геологи, более того, отвечая на них, никак не могут придти к согласию; причиною называют то воду, то огонь, то эрозию, то поднятие и опускание суши. Всюду у них теории, нигде нет истин; множество работников, и ни одного всеведущего; множество жрецов, но нет бога; так что каждый волен возложить свою гипотезу на алтарь науки и сказать, когда она развеется дымом: «Дым как Дым, не хуже вашего, сударь мой».
Вот за что я люблю геологию. Она необозрима и туманна как всякая поэзия. Подобно всякой поэзии она погружается в тайны, питается ими, плавает в них и не тонет. Она не подымает завесу, но колеблет ее, и в случайные просветы проникают порой лучи, ослепляющие наш взор. Вместо того, чтобы звать на помощь трудолюбивый разум, она берет себе в спутники воображение и увлекает его в сумрачные недра земли или, возвращаясь к первым дням творения, ведет его по юной, зеленеющей земле, едва возникшей из хаоса, сверкающей первым своим нарядом, попираемой стопами исчезнувших животных, о которых говорят нам ныне их гигантские останки. Если она и не приходит к цели, то, стремясь к ней, идет живописной дорогой; если она вкривь и вкось толкует вторичные причины, то именно поэтому подводит нас к первопричине. Вот отчего наука эта, неизменно нами любимая, является столь же древней как и сам человек. Книга Бытия представляет coфoоj старейший и величайший геологический трактат, а у греков, наиболее поэтического из народов, мы с самого начала находим во множестве всякого рода теогонии и космогонии; с тех пор и поныне вулканисты и нептунисты [4]оспаривают друг у друга, правда, не признание ученого мира, но наивное восхищение, праздное любопытство, поэтическое чувство думающих и доверчивых людей.
В Валорсине я присоединился к трем туристам – французу и двум англичанам, не имевшим между собой ничего общего, разве лишь то аристократическое единомыслие, которое временно объединяет людей с хорошими манерами, побуждая их считать себя равными и общаться друг с другом, когда общаться попросту больше не с кем.
Англичане были красивые и рослые юноши, из тех вчерашних студентов, не вполне еще взрослых, которых папаша-лорд посылает сразу после Кембриджа путешествовать по континенту в сопровождении не то гувернера, не то слуги, чтобы он чистил их ботинки и оплачивал их шампанское. Несколькими днями раньше они уже встречались мне. В гостинице за столом они показались мне чинными как истые английские джентльмены; в дороге они резвились, напоминая больших ньюфаундлендских собак, которые уже готовы стать степенными, но порою еще скачут и играют с маленькими шавками.
Француз был элегантный молодой человек, карлист по убеждениям [5], по речам и усам; один из тех салонных политиков, которые мнят себя заговорщиками, чуть ли не участниками сражений в Вандее и уверены, что теперь, по умиротворении Запада [6], они должны, ради спокойствия своих близких совершить турне по Швейцарии и таким образом дать французскому правительству благовидный предлог закрыть глаза на их мятежное прошлое; при всем том – отличный человек, жизнерадостный и в белых перчатках.
Англичане были немногословны, неловки, но достаточно восприимчивы к красотам природы. Свежая зелень, прозрачные воды и особенно – гордо вздымающиеся вершины, доставляли им внутреннее удовлетворение, которое не всегда сдерживалось чувством собственного достоинства.
«Beautiful!» [7] говорили они время от времени, обмениваясь взглядами. Они' были одеты с той удобной и дорогой простотой, какая отличает туристов их нация отличные широкополые соломенные шляпы, очень чистые, хотя немного помятые, небрежно сидевшие на их головах, серые холщевые куртки, удобно скроенные, с глубокими карманами, вмещавшими доллондовскую подзорную трубу [8], серебряный портсигар и весь набор предметов, необходимых или полезных в путешествии по горам. Та же простота и та же изысканная чистота отличала их белье. А сквозь некоторую неуклюжесть их движений проглядывала уверенность молодых аристократов, которые, снаряжаясь в путь, рассчитывают на своего портного, чтобы чувствовать себя удобно; на свою располагающую наружность, чтобы быть замеченными, но более всего – на свои гинеи, доставляющие им почет и любовь всех трактирщиков континента.
Француз, напротив, был чрезвычайно общителен, имел манеры живые и непринужденные и громко восторгался альпийскими красотами, которые впрочем был совершенно неспособен воспринимать. Как и англичане, он восхищался прозрачными потоками, но лишь затем, чтобы сравнивать их с тепловатой водой, какую пьют в Париже. Восхищался он и горными вершинами, но главным образом – огромными прыжками, какие совершают с утеса на утес серны, на которых он надеялся поохотиться, как только получит из Парижа заказанное им отличное лепажевское охотничье ружье. «Первую же, которую подстрелю, говорил он, я пошлю в Прагу» [9]. Одет он был как Робинзон, которого обряжали модистки. Изящная непромокаемая шляпа с маленькими полями кокетливо сидела на его напомаженной голове; непромокаемый галстук обвивал шею; длинный бархатный сюртук с полукруглыми полами для удобства ходьбы, с низкой и узкой талией для придания легкости, был снабжен наружными и внутренними карманами, наполненными миниатюрными безделками, большая часть которых была бесполезна или сама по себе или из-за своих крохотных размеров. Однако подлинным шедевром была его трость. Эта трость раскладывалась в виде стула, позволяя с комфортом любоваться пейзажем; раскрывалась как зонтик, чтобы защищать от солнца; и превращалась в альпеншток для восхождений на горы. Альпеншток был тяжел, как балка, зонтик изогнут, как крыло летучей мыши, а стул покоен, как табурет без сиденья, но обладатель его был счастлив и горд бесчисленными удобствами, какие обеспечивал ему этот шедевр.