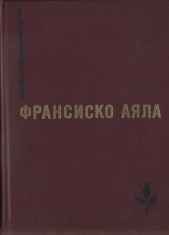Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Истина не тускнеет от повторения, а стало быть, уместно здесь напомнить: к измене отечеству, к пагубным для отечества деяниям ничто не совращает более, чем молодые лета, особенно же главный их порок — распущенность. Оба старца, дойдя до излюбленной темы, начинают состязаться, как в оперном дуэте, все с большим увлечением, но не забывая и об эстетическом впечатлении. Цитирую дословно. «О, прекрасный дар позднего возраста, уносящего как раз то, что в молодости всего порочнее!» — ведет один голос, а другой вторит ему: «Природа не наслала на человека напасти более губительной, чем страсть к наслаждению!» — «Где властвует похоть, нет места воздержанности», — провозглашает один. На что второй мудрец: «В царстве наслаждения доблесть утвердиться не может». И дальше уже совсем в ритме танца: «Человек, пока будет наслаждаться, ни над чем не сможет задуматься!» — «Ничего не постигнет ни разумом, ни мыслью!» — «Вот почему всего отвратительнее, всего пагубнее наслаждение». — «Оно, чем сильнее и продолжительнее, тем вернее гасит свет разума!»
«Не бранить, а хвалить надобно старость, коль скоро она совсем не ищет наслаждений». — «Чего не желаешь, без того и легко прожить». — «Нет ничего приятнее старости, располагающей досугом».
Ибо к истинным радостям, к наслаждениям, достойным его, человек приобщается только в старости.
Следует долгий перечень этих истинных наслаждений, примерами из жизни подтвержденный. Извинительно то, что и здесь наш автор избирает форму дидактической проповеди.
Упражнения ума сделали прекрасной старость Цетега.
Гай Гал же на закате жизни увлекся измерениями небесных тел и Земли: «Какая была для него радость за много дней вперед предсказывать нам затмения Солнца и Луны». Для Лициния Красса усладой сердца стали понтификальное и гражданское право. «Разве сравнятся с этими наслаждения от пиршеств, от игр, от блуда?» Ни в коей мере.
С ними позволительно сопоставить лишь счастье, даваемое землепашеством. Ведь «сам Гомер показывает, как Лаэрт, стараясь унять тоску по сыну, обрабатывает и унавоживает поле». «В те времена в поле, бывало, находились сенаторы, то есть старики; ведь пришедшие известить Луция Квинкция Цинцинната о том, что он назначен диктатором, увидели его идущим за плугом».
Приведенные строки — пример того, как два великих старца античной поры — Катон и Цицерон — предлагают возместить известные недостатки преклонного возраста. И с тех самых пор человечество прибегало к этим аргументам как к наиболее действенной панацее.
Феномен заслуживает внимания. Он показывает, сколь малым способен утешиться наш разум. Ему довольно иллюзии утешения.
Цицерона нетрудно уличить кое в чем. Он не прочь покрасоваться перед нами; он проявляет склонность к старческому бахвальству. Любыми способами стремится он представить моложавым свое тело и свою душу, потому что он больше всего страшится сойти со сцены, оказаться среди стариков (где ему и место); страшится собственной старости (а старость давно уже вступила в свои права). Свою жизнестойкость и врожденные способности к великим свершениям он тщится подтвердить такими свойствами натуры, кои не зависят от возраста: что воля его и по сей день так же непреложна для окружающих; что голос его по-прежнему заставляет всех смолкнуть; что он умеет властвовать.
Уж что-что, а это мы умеем — начиная с пятилетнего возраста. Но зрелые годы труда, как пора человеческой жизни от ее рассвета до заката, имеют другую меру оценки: что именно утверждаем мы своим властным словом, как и на основании чего мы «властвуем». Цицерон обходит это молчанием. В его уме — как и во многих умах ему подобных — эта мысль подверглась обызвествлению. Да и возрастающее самолюбование его заставляет нас сокрушенно качать головою.
«Мне уже восемьдесят четвертый год, — говорит он устами Катона, — а есть у меня силы и для курии, и для друзей, и для опекаемых, и для гостеприимцев». Дозволено ли будет нам дать волю своим чувствам, высказать свое личное мнение по поводу того, что вернее и надежнее всего защищает от старости и от смерти и самого Цицерона, и Катона, в старую тогу которого он рядится, чтобы прядать больше веса своим аргументам?
Как раз то, о чем он не написал, да и не мог написать, но что отчетливо проступает наравне с ангельским простодушием и убежденностью автора за каждой строкой «De senectute». Это и есть suprema consolatio — абсолютная истина! И она могла бы составить основу другого трактата под названием «De senilitate» [13].
Все современные средства против старения физического — не духовного, — по сути, можно разделить надвое. Многие предлагают: по мере того как слабеют мышцы тела, в равной пропорции уменьшать нагрузку на них. Так, при подъеме в гору постепенно выдыхающимся легким способно помочь одно: если мы с тою же постепенностью будем уменьшать свою ношу. Другое рекомендуемое средство — эвтаназия, или смерть, опережающая страдания, а выражаясь яснее: заблаговременное умерщвление ближних и к тому же без их ведома, ибо смерть, о приближении которой заранее знает уходящий из жизни, не может быть лишенной страданий.
Литература с описаниями обоих методов обширна. Принципиальная разница между двумя путями заключается в том, что если первый — это сугубо личное, индивидуальное решение, то второй недостижим без посторонней помощи и в этом смысле коллективен: здесь требуются согласованные действия больших или меньших человеческих сообществ. А главное, необходима полная моральная слаженность. Лишать жизни человека, даже совершившего преступление, — далеко не безусловное право; ибо жизнь — это абсолютная данность, преступление же в сравнении с нею — относительно. Убийство существа безвинного дозволено разве что богам, и даже среди богов подобное сходило с рук лишь тому, кто сам способен был вдохнуть в человека жизнь. Можно ли оборвать жизнь человека, исходя из его же собственных интересов, сколь бы бесспорным ни казался подобный исход при некоторых обстоятельствах — к примеру, для страждущих, для неизлечимо больных, — это, по существу, глубочайшие вопросы философии: что есть время, что есть наше ощущение, наш подход к действительности.
У эвтаназии на Западе имеется немало восторженных сторонников, и доводы их сводятся к тому, что, мол, не за горами день, когда эвтаназия вступит в свои права. И что со временем права ее окрепнут. Мы же со своей стороны, поскольку предметом нашего исследования служит не смерть как таковая, но область, географически граничащая с нею — старость, коснулись права на эвтаназию лишь в связи с возможностью устранения стариков из жизни; то есть затронули один аспект: имеют ли право жить люди, перешагнувшие за тот весьма преклонный возраст, когда самопожертвование не умножит моральных капиталов, чтобы старикам жить на проценты с них, видеть благосостояние сыновей и принимать знаки благодарности от внуков.
Известный афоризм, что самое верное средство, чтобы не состариться, — это умереть молодым, при всей его заманчивости придется отклонить ввиду двух непреложных истин. Старение, пусть оно во многом непостижимо, наш разум приемлет. Смерть человека в равной степени непостижима и неприемлема. Поистине смерть равно чужда и старцу и младенцу. Откуда еще не следует делать вывод, будто бы смысл жизни совсем не связан со смыслом смерти или рассудочным ее истолкованием.
Чем изощреннее наш разум, тем дальше он от понимания смерти. Смерть для нас — неумолимый враг, но ей противостоит инстинкт еще более неумолимый — инстинкт жизни. Он напрочь отметает все дешевые истолкования смерти. Каждый человек в меру своего развития способен сносить пошлые проделки возраста, вульгарные его коленца и фамильярные шутки над нашим телом.
Человеку, близкому к искусству, пристала снисходительность при встрече с величайшей из бессмыслиц — бренностью нашей плоти, то есть смертью.
Мы видели предел изобретательности, с какою великие трибуны древности убеждали нас, что старость приемлема, то есть логична. А тем самым, стало быть, логична и смерть.