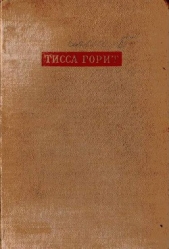Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Книга состоит из романа «Карпатская рапсодия» (1937–1939) и коротких рассказов, написанных после второй мировой войны. В «Карпатской рапсодии» повествуется о жизни бедняков Закарпатья в начале XX века и о росте их классового самосознания. Тема рассказов — воспоминания об освобождении Венгрии Советской Армией, о встречах с выдающимися советскими и венгерскими писателями и политическими деятелями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Гамбурге мы остановились у товарища X., жившего в скромном домике. Хозяин (не припомню точно, как его звали — Герман или Генрих Шульц), одноглазый матрос, инициалом X. подписывал довольно систематически появлявшиеся толковые заметки в местной партийной газете. Когда-то он действительно был матросом, потерял глаз в сражении у Скагеррака в 1916 году, а закончил свою жизнь в камере пыток гамбургского гестапо в 1933 году.
Гамбург я увидел впервые: прекрасный, и еще раз прекрасный город! Но то, что я увидел в Гамбурге тогда, отнюдь не рассеяло мучительных сомнений, возникших у меня по дороге. Более того! По случаю какого-то нацистского праздника все дома в городе были расцвечены флагами со свастикой.
По предложению X. мы пошли ужинать в Матросский клуб.
— Там очень уютно! — сказал наш одноглазый друг. — И нацисты не смеют туда показать носа!
С нами вместе пошли ужинать еще два молодых журналиста. Их имен я, к сожалению, не запомнил, но знаю, что спустя полгода Бехеру пришлось писать о каждом из них некролог. В 1933 году в Германии некролог был самым распространенным литературным жанром.
В Матросском клубе мы сразу почувствовали себя легко. Названия кораблей на темно-синих матросских бескозырках и беретах заменяли официальное знакомство. Моряки пятнадцати, а то и больше стран мира ели, пили, разговаривали, пели за маленькими столиками в жарко натопленном просторном, но очень низком помещении с балочным перекрытием. Почти за каждым столиком рядом с матросами сидели одна-две девицы, род занятий которых не вызывал никаких сомнений. На стенах висели флаги всех морских держав. Воздух в помещении был густой от запаха острых кушаний и алкоголя, а дым от табака настолько въедлив, что даже я, заядлый курильщик, кашлял и тер глаза. Тонкий звон бокалов с виски и глухой стук пивных кружек, лязг вилок и ножей временами заглушался громоподобным голосом кого-либо из посетителей. Из густого облака дыма то и дело выплывала фигура какого-нибудь морского колосса — канадца, датчанина, итальянца или немца. За одним столом японские морячки чокались с испанцами в круглых шапочках с наушниками, за другим — пятеро негров пили со светловолосыми поляками. В клетке у висячего фонаря сидел, насупившись, большой зеленый попугай. Он знал самые соленые ругательства, по крайней мере, на десяти языках мира и, надо отдать ему должное, вовсе не скрывал своих способностей. Какой-то седеющий малаец бамбуковой тростью дразнил злую птицу, пока рослый голландец не влепил ему оплеуху. Малаец в ответ ударил его ногой в живот. На этом, к моему величайшему изумлению, конфликт был исчерпан. Откуда ни возьмись — словно из-под земли — вырос официант, похожий на вышедшего в тираж чемпиона по боксу, и стал между матросами, предлагая каждому из них по пивной кружке с джином. Противники чокнулись и опрокинули в себя содержимое, а кружки эффектным жестом швырнули об пол. Через несколько секунд драчуны рухнули рядом с черепками и захрапели как убитые. Они не проснулись даже тогда, когда другой официант — «вышибала» взял их обоих за ноги и уложил под стол, чтобы не мешали остальным.
— Здорово, а? — заметил X.
— Высший класс! — воскликнул я с воодушевлением.
Вероятно, X. проболтался: тридцать — сорок матросов окружили наш стол. Они хотели услышать Бехера. Не думаю, что эти полтора центнера бицепсов или хотя бы один из них — тот немецкий матрос-гигант, который, взяв в охапку Бехера, как ребенка, поднял и поставил его на стол, — знал хоть одну строчку из его стихов. Но что они наверняка о нем знали, так это то, что Бехер — коммунист, а кто-то, может, и слыхал, что на путь этот его в свое время направила Роза Люксембург, оценив молодого социалистического поэта, поднявшего свой голос против империалистической бойни.
Бехер стоял, сложа руки на груди, посреди накрытого пестрой скатертью стола, отодвинув пивные кружки и бутылки рома. Он выглядел совсем молодцом, хотя уже тогда начинал лысеть и терять свою былую стройность. В потрепанном от частой езды на мотоцикле костюме он больше походил на доставщика мебели или докера, чем на поэта.
Когда матрос-гигант, поднявший на стол Бехера, густым басом на трех языках представил присутствующим поэта, в зале минуты три-четыре стоял гул от голосов: «Давай! Слушаем! Читай нам, Бехер!» Затем все стихло. Даже попугай умолк.
Под перекрестными взглядами матросов Бехер с минуту постоял в полной тишине, а затем широко раскинул руки:
— «Песня о пятилетнем плане».
Под таким названием несколько месяцев назад вышла его знаменитая поэма. Название это определяло не только содержание поэмы, но и направление мыслей дальнозоркого партийного поэта. В поэму Бехер вставил два зонга — гимн социалистическому труду и гимн пролетарскому интернационализму. Их он и прочитал матросам разных континентов. Он читал спокойно, чуть растягивая слова, но очень звонко и внятно. Его жесткий, отдающий металлом голос завораживал зал; мысли, ясно и четко изложенные в поэме, хватали за сердце тех, кто понимал по-немецки, а у тех, кто не понимал слов, холодок пробегал по спине, они словно бы кожей ощущали, о чем говорит этот похожий на докера парень…
Когда Бехер спрыгнул со стола, поднялся адский шум. Не было аплодисментов, никто не кричал «браво» и «виват», но все что-то орали и топали ногами. Пол гремел, от ударов кулаками по столу подпрыгивали тарелки, бутылки и стаканы. К нашему столу ринулся людской поток — все несли джин, ром, виски, водку и еще не знаю какие вина и напитки цветов смарагда, топаза и рубина. Малаец бросил на наш стол копченую рыбину килограммов на десять, а голубоглазый стройный норвежец преподнес огромную гроздь бананов. Не знаю, что с нами было бы, если бы в эту минуту в зал не ворвалась ватага американских моряков.
Их было человек тридцать — сорок, и по их боевому настроению чувствовалось, что они уже здорово подвыпили. Едва оглядевшись, они сразу поняли, что им надо делать, и прямо с порога кинулись на негров и малайцев, пытаясь прогнать их на улицу.
— Лезь под стол! — крикнул мне X., знавший из опыта, чем это кончается. Он буквально силой загнал нас с Иоганнесом под стол в ту минуту, когда в воздух уже полетели кружки и бутылки из-под рома, а стулья, поднятые над головой, затрещали, ударяясь о широкие плечи и крепкие черепа. Сражение, к моему удивлению, длилось недолго. Вскоре X., обеспечивший нашу безопасность, а сам с двумя сопровождавшими нас журналистами принимавший участие в драке, заглянул под стол и просигналил:
— Выходите! Мы их выбросили отсюда!
И действительно, все в зале уже принимало прежний вид. Только черепки еще валялись на залитом вином полу да погасла одна лампа. Официанты сваливали в угол поломанные стулья. Кое-кто из матросов вытирал салфеткой окровавленный лоб. Но это уже никого не смущало. Главное, что матросы из разных стран прогнали американских расистов.
— Пошли! — сказал Бехер.
— Давай останемся. На улице очень холодно.
Иоганнес сегодня был явно склонен к аллегории:
— Потому и надо идти, что холодно.
На дворе была действительно мерзкая погода. Ветер превратился в бурю. Он бил, как автоматная очередь, и завывал, как приближающаяся мина.
Ромен Роллан
Мы уже давно переписывались друг с другом и только спустя много лет встретились. Письма его, хотя и адресовались мне, отнюдь не носили личного характера. У Роллана письма — особый литературный жанр, в них он часто высказывался по важнейшим политическим или литературным вопросам. Непосредственное обращение к адресату ничего по существу не меняло. Поэтому адресованные мне письма Роллана (за исключением двух-трех) печатались в «Правде» или «Известиях». И хотя я горжусь, что они адресованы мне лично, я не настолько глуп, чтобы считать эти маленькие эпистолярные шедевры моей личной собственностью.
Встретились же мы с Ролланом, за которым к тому времени закрепился эпитет «Совесть Европы», впервые в марте 1932 года. В ту пору прогрессивные литераторы всего мира готовились провести кампанию протеста против захватнической политики Японии на Дальнем Востоке. Об этом я должен был говорить с Ролланом. Я запросил телеграммой, когда могу приехать к нему, и незамедлительно получил очень теплое приглашение. В ответной телеграмме говорилось, что швейцарскую визу я смогу получить через Стефана Цвейга в Вене. Однако, прибыв в Вену, я узнал от Стефана Цвейга, что швейцарские власти по политическим причинам отказали мне во въезде в их страну. Тогда Роллан предложил встретиться в небольшом городке на швейцарско-австрийской границе. Мы провели с ним вместе почти сутки. Политическая часть нашей тогдашней беседы теперь уже не актуальна. Мы говорили о военной опасности, о надвигавшейся в ту пору войне, которая нынче уже отгремела над миром. Роллан, казалось, испытывал физические муки от того, что человечество еще не осознало, какую беду несет ему милитаризм.