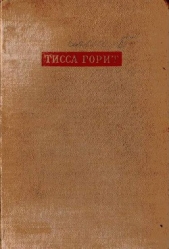Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Книга состоит из романа «Карпатская рапсодия» (1937–1939) и коротких рассказов, написанных после второй мировой войны. В «Карпатской рапсодии» повествуется о жизни бедняков Закарпатья в начале XX века и о росте их классового самосознания. Тема рассказов — воспоминания об освобождении Венгрии Советской Армией, о встречах с выдающимися советскими и венгерскими писателями и политическими деятелями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После затянувшихся до глубокого вечера переговоров мы поужинали, и наши генералы ушли в свой штаб. Наш командующий генерал Петров распорядился приставить к Беле Миклошу двух советских офицеров-венгров: лейтенанта Володю Олднера (сына Гезы Кашшаи) [60] и меня — я был тогда в чине майора. Видимо, наша компания Миклоша Дальноки не очень веселила, ибо не прошло и получаса, как главнокомандующий 1-й венгерской армии широко зевнул и сказал:
— Пожалуй, прилягу. Только вот не засну сразу. Нет ли у вас, господа, чего-нибудь почитать?
Володя взглянул на меня, я на него. Мы провели вместе на фронте не один год и научились понимать друг друга с полуслова. Попросив разрешения выйти, Володя вскоре вернулся с томиком Петефи в руках. Генерал-полковник Бела Миклош-Дальноки взял книгу, но, взглянув на титульный лист, — мы увидели это по выражению его лица, — сразу же захотел вернуть ее нам обратно.
— Петефи, ну конечно же Петефи, — проговорил он. — А знаете, господа, его высокопревосходительство господин регент очень не любит Петефи и давно планирует акцию убрать его памятник с берега Дуная. Понимаете? Ведь Петефи — это… Впрочем, если нет ничего другого…
Мы вежливо попрощались.
Наутро мы снова должны были встретиться с ним.
— А знаете, вчера перед сном целый час читал эту вашу книгу, — сказал Бела Миклош, передавая томик Петефи Володе Олднеру. После короткой паузы он добавил: — А он… ничего, не так уж плохо пишет, этот ваш Петефи…
Главнокомандующий, видимо, хотел еще что-то добавить, возможно, он подумал, что стоит попросить господина регента Хорти оставить в покое памятник Петефи на берегу Дуная, но, по всей вероятности, передумал и, занявшись едой, заметил лишь:
— Превосходное блюдо эта копченая семга!
Возвращение на родину
Это случилось добрых полстолетия назад… Как-то я был ужасно огорчен, не получив в награду по случаю окончания учебного года книгу, которую мне очень хотелось получить, ради которой я столько старался и которую, по- моему, заслужил. Мама пыталась утешить меня добрым советом.
— Желания, — сказала она, — никогда не сбываются полностью. Человек обычно получает меньше того, чего он достоин. И счастлив, сынок, тот, кто может с этим смириться.
Столь печальное утешение для бедных и слабых очень меня возмутило. Я никогда не забывал об этом грустном смиренномудрии и никогда не смирялся с тем, что смирение — вечный закон жизни. Было бы неправдой утверждать, будто вся моя жизнь была бунтом против него, но одно верно: когда желания мои выходили за рамки повседневности, мне всегда вспоминалось это правило, и я всякий раз решался нарушить его.
Сейчас я расскажу одну историю, в которой все удалось именно так, как я хотел. Лучше и прекраснее, чем мог надеяться самый большой оптимист.
Чтобы все стало понятным, скажу, что четверть века я жил вдали от Венгрии. По политическим причинам. После падения Венгерской Советской республики в 1919 году меня разыскивали за убийство. О том, кого я убил, где и когда, власти, издавшие приказ о моем аресте, знали так же мало, как и я сам, зато мне, так же как властям, меня разыскивавшим, было совершенно очевидно, что если меня схватят, то, конечно же, повесят. Не потому, что я убийца, а потому, что сражался против убийц, потому, что я — коммунист.
Четверть века я жил за границей, но никогда, ни на одно мгновение не отказывался от мысли вернуться в Венгрию, в Будапешт. Четверть века мне не много было известно о моей матери, и она не часто слышала обо мне. Во время второй мировой войны я даже не знал, жива ли она. Тоска по родине, проявлявшаяся иной раз в странных настроениях, непривычной сентиментальности, внезапно возникающих давно забытых воспоминаниях, иной раз мучительная, словно физическая боль, тоска все сильнее сливалась во мне с тоской по матери. Во время войны (я принимал в ней участие как солдат Советской Армии) на полях сражений, когда гремели пушки, не раз сквозь громовые раскаты мне слышался тихий голос матери:
«Береги себя, сынок».
И когда я бывал в дозоре в темном лесу, в ночи, что темнее темного, шепот деревьев звучал для меня голосом карпатских лесов, и временами чудилось, будто дубы Яноша Араня [61] окликают меня на сочном венгерском языке, и, шагая по тычихинскому лесу, я представлял себе, будто нахожусь на Маргитсигете [62].
Я не стыжусь признаться в подобных «глупостях» и не жалею, что множество такого рода «глупостей» окрасило мою жизнь, которая, впрочем, и без того не была серой и монотонной.
В начале января 1945 года (через добрых двадцать пять лет после того, как я покинул Венгрию) я оказался в Кишпеште. Поздно вечером 8 или 9 января я получил приказ добраться с двумя дюжинами солдат на машинах до Будапешта (где шли жестокие уличные бои), найти улицу Микши, на ней типографию «Атенеум», очистить помещение типографии от немцев и нилашистов и обеспечить охрану здания и станков. Ночь (из-за сильного артиллерийского обстрела я не мог перейти площадь Барошш) я провел на кладбище Керепеши в мавзолее Ференца Деака [63]. На рассвете советская артиллерия заставила замолчать немецкие батареи, обстреливавшие Восточный вокзал и площадь Барошш, и мне удалось попасть на улицу Роттенбиллер, а оттуда через улицу Дохань проникнуть на улицу Микши. Примерно к одиннадцати утра мы заняли здание типографии «Атенеум». Закончив с этим, очистили «Нью-Йорк палас» и вернулись в Кишпешт за новыми распоряжениями. Из Кишпешта свежие полки направлялись в Будапешт, и мне удалось получить разрешение присоединиться к одному украинскому полку. Со мной пошли два украинских писателя: Леонид Первомайский, переводчик Петефи на украинский язык, и один из крупнейших украинских романистов — Иван Ле. Высшее командование, находившееся в Кишпеште, разрешило нам троим с двенадцатью солдатами, назначенными для нашей охраны, прочесать город, чтобы найти мою мать. Как обычно полагается в подобных случаях, нам внушили, чтобы мы были осторожны. Итак, мы двинулись в путь. До кафе Эмке на углу проспекта Ракоци и Кёрута мы шли с полком, а там отделились, взяв два грузовика.
Сначала наша маленькая группа отправилась на площадь Изабеллы. В 1919 году здесь жили мои родители. Дворник нашего старого дома по записям в домовых книгах установил, что мои родители уже пятнадцать лет как переселились отсюда. Он даже сказал куда. На улицу Роттенбиллер. Пока я беседовал с дворником, вокруг нас собралось с десяток бледных ребятишек. Первомайский и Иван Ле разрезали для них на тонкие ломти две буханки солдатского хлеба.
На улице Роттенбиллер я раздобыл новый адрес, а с ним и новое разъяснение. Мы ходили из дома в дом, получая самые разноречивые справки. Несколько дней спустя я наконец узнал, что мои мать и сестра, если они живы, находятся в подвале дома на улице Пожони. Но в то время там еще были немцы.
Мы вернулись в Кишпешт, но через день с двенадцатью провожатыми и двумя мешками хлеба снова были в Будапеште. Теперь нам удалось дойти до Западного вокзала, но дальше пути не было. Мы разделили два мешка хлеба между детьми и женщинами и вновь возвратились в Кишпешт. Два дня спустя добрались уже до театра «Вигсинхаз», где совершенно неожиданно попали в многочасовой уличный бой. Насколько мне известно, это было последнее сражение в Пеште. На другое утро в пять часов вместе с Первомайским, капитаном Матюшевским, двенадцатью красноармейцами и двумя мешками хлеба мы остановились у дома на улице Пожони, в подвале которого, как говорили, находилась моя мать.
Подъезд был закрыт. Мы принялись дубасить в дверь. Долго никто не появлялся. И только когда мы стали бить в дверь ружейными прикладами, послышался наконец голос: