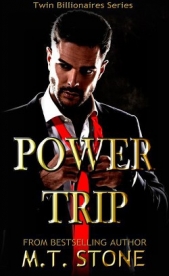Листки памяти
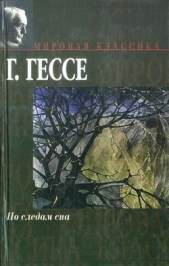
Листки памяти читать книгу онлайн
По следам сна – нечто, даже в сложном, многообразном творчестве Германа Гессе, стоящее несколько особняком. Философская ли это проза – или просто философия, облеченная в художественную форму? Собрание ли странноватых притч – или автобиография, немыслимо причудливо выстроенная?
Решайте это сами – как, впрочем, и то, к каким литературным видам и подвидам отнести реально произведения, условно называемые поздней прозой Германа Гессе …
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так и мне открылась она в ту секунду пробуждения. И пусть я мог забыть о ней секунду спустя, пусть мог потом сгладить и приукрасить ее по общелюдскому обыкновению. Все же какая-то яркая вспышка или, скорее, трещина на гладкой поверхности жизни, какой-то испуг или предостережение в памяти запечатлелись. И хранятся в ней в чистом виде, без приукрашиваний и перетолковываний: испуг, вспышка.
Сам еще почти ребенок, я вдруг воочию увидел перед собой свое увядшее детство – в личике брата, это было явление, а те размышления и умозаключения, которым я предавался в последующие часы и дни, были как сползающая с него шелуха. Само же явление было по крайней мере прелестным и милым, ведь то, что я увидел и от чего разверзлась на какой-то момент моя душа, было картинкой чудесной и в краткости своей благородной – мне предстала сама просветленность детского лика вообще. И все же, повторяю, действие этой картинки можно сравнить со вспышкой или испугом, всегда сопутствующим такому мигу пробуждения, ибо у истины миллионы ликов, но сама истина одна. Мне показали, что малышка Ганс обладает чем-то прекрасным и драгоценным, что я утратил, чего я лишился, что было, может быть, самым лучшим и единственно важным во мне, ибо восторжествует некогда детская благость, а взрослым будет заповедано у врат Царства Божьего: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети…» Я утратил невинность и счастье и заметил это лишь потому, что увидел их в глазах другого человека. Этот опыт принес мне знание: чем мы владеем, того не замечаем, о том даже не ведаем. И я был ребенком, не зная об этом, а теперь вот прозрел. В лучистых, нежно озаренных улыбкой глазах я узрел счастье, которое даровано только тем, кто ничего не знает об этом. Оно выглядело лучезарным и неотразимо обаятельным, это счастье. Но в нем было и нечто, над чем можно было посмеяться, почувствовать свое превосходство, в нем была детскость, которую я склонен был рассматривать как наивность, почти как глупость. Оно, это счастье, вызывало зависть, но и насмешки, и если обладать им я больше не мог, то уж насмешки и критика оставались при мне. Ученики Спасителя, должно быть, так же иной раз смотрели на прославляемых им детей, как я на Ганса, то есть с завистью, но и с насмешкой. Они чувствовали себя взрослыми, умными, опытными, знающими, они чувствовали свое превосходство. Да только взрослость, ум, чувство превосходства не дают счастья и не сулят блаженства и не вводят в Божие царство.
Вот тот осадок горечи, что остался во мне после этой вспышки пробуждения. Но эта горечь была еще не вся. Устыжающий урок заключал в себе мораль для меня самого, но была и другая мораль – для всех: она язвила душу в первый момент не так сильно, но зато и действовала глубже – такова уж природа истины, всегда неприятной и непреклонной. А дело было в следующем: ведь и то счастье, которым обладал Ганс и которым так светилось его лицо, ведь и оно не было долговечным, ведь и ему суждено было увянуть, пропасть, ведь и я им владел, да утратил, так будет и с Гансом, владеющим им теперь. И оттого, что я это знал, я испытывал к Гансу – помимо зависти и насмешки – еще и жалость. Жалость не обжигающую и порывистую, но кроткую, щемящую, какую можно почувствовать к цветам на лугу, обреченным секире косца.
Повторяю: разумеется, те понятия, с помощью которых я пытаюсь описать и истолковать то, что происходило в моей душе, тогда еще не были мне доступны. Я еще не умел анализировать свои состояния, хотя приступил к этому в тот же вечер и продолжаю заниматься этим до сих пор, вплоть до того момента, как сел писать об этом. Многие мои мысли по этому поводу возникли, надо полагать, значительно позднее, например мысль о смерти, которой у меня тогда наверняка не было. Конечно, при виде улыбающегося брата у меня мелькнула мысль о том, что все проходит, но текучесть и смерть в глазах ребенка далеко не одно и то же. Что мое детство не вечно, что лучшее в нем уже навсегда отошло – все это миг пробуждения сказал мне достаточно внятно, как сказал и другое: что и братец мой потеряет все это, что общий закон распространяется и на него. Но о том, что закон этот именуется смертью, у меня понятия еще не было, потому что о смерти я еще ничего не знал и в нее не верил. О бренности же мне было хорошо известно из наблюдений природы и чтения поэзии; то, как падают листья, я наблюдал уже достаточно часто. А что всякое «пробуждение», всякое соприкосновение с действительностью и ее законами означает, среди прочего, и соприкосновение со смертью – этого я еще не знал, хотя уже как-то по-своему, с содроганием души, догадывался.
Когда я начинал эти заметки, то хотел лишь воскресить в воображении тот миг Рождества в отчем доме, о котором я уже рассказал, и сделать это письменно, потому что, когда пишешь, те же самые мысли или события душевной жизни предстают вдруг в ином свете, являют новые стороны, вступают в новые связи. Теперь, однако, я вижу, что то маленькое событие хоть и стоит во всей своей отчетливости перед моим внутренним взором, как если бы случилось вчера, но другим людям, посторонним, крайне трудно дать о нем представление. Даже если бы я был великим писателем, я бы не смог так описать сияние счастья и невинности на личике моего брата, чтобы это описание стало чем-то значительным и для другого, для читателя. Ведь если и есть смысл делиться этим воспоминанием, то вовсе не ради того, чтобы поярче описать сияющее лицо Ганса, а ради того, чтобы сообщить, что было со мной самим. Просияв, Ганс, сам того не ведая и так и не узнав об этом, дал мне повод пережить маленькую драму потрясенного пробуждения. И тут я неожиданно делаю открытие: мой маленький брат Ганс отнюдь не впервые дает мне, сам того не подозревая, повод пережить подобную драму. Чтобы справиться с воспоминанием о рождественском вечере, я не должен рассматривать его изолированно, отдельно, но должен – рискуя и в этом случае говорить больше о себе самом, чем о нем, – дать более развернутую характеристику брата и его жизни. Я не настолько художник, чтобы создать законченный образ брата, к тому же это значило бы, что я самому себе внушил, будто до конца узнал и понял его. Тем не менее я прожил с ним немалую часть жизни, нас сближали и общая кровь, и кое-какие семейные обыкновения, и, хотя окончательной близости между нами так и не возникло, я все же очень любил его. Попытаюсь, таким образом, осветить его жизнь в меру своего понимания очевидца. То будет совсем небольшая часть его биографии, известной мне лишь в общих чертах; тем не менее самое существенное в ней, пожалуй, не ускользнет от моего внимания, поскольку, хотя мы утратили близость, став взрослыми, наши жизненные пути в их решающие моменты странным образом перекрещивались, и как ни отличалась его жизнь от моей, она все же имела значение для меня, а бывало и так, что мне мерещилось в ней лишь слегка измененное зеркальное отражение моей собственной жизни.
Крестили Ганса не под его именем, его настоящее, данное церковью имя было, как и у нашего отца, Иоганнес. Ни одному человеку не пришло бы в голову назвать нашего отца Гансом; Иоганнес – вот было самое подходящее для него имя, излучавшее достоинство и авторитет и в то же время не лишенное обаятельного величия. Иоанном, как-никак, звали и евангелиста-гностика, любимого ученика Иисуса. В этом имени сошлись благородство, нежность, духовность. И, напротив, никому не пришло бы в голову назвать нашего Ганса Иоганнесом. Он был именно Ганс – свой, близкий, милый добряк, в нем ничего не было недоступного и загадочного, как в Иоганнесе, его отце, а потому его всю жизнь и звали просто Гансом, как это водится иной раз среди мирных обывателей. И все-таки он не совсем сросся со своим именем и не настолько лишен был загадки, как это казалось. Тайна жила и в нем, как было в нем и что-то от благородства его отца, что-то рыцарское, донкихотское.
Он был среди нас, братьев и сестер, самым младшим, как младшенького его все любили, опекали, но подчас и задирали; хлопот родителям он не доставлял никаких, разве что в тот единственный раз, когда в четыре года пропал. Жили мы тогда на самой окраине Базеля, там, где за Шпаленрингом и старинной эльзасской железной дорогой город переходит в предместья. И вот однажды малыш отправился гулять один, ушел далеко от дома, пересек железнодорожное полотно и отправился бродить по городским улицам, где его за первым же поворотом ждал неизведанный, интересный мир, в который он устремился с большим любопытством. Где-то он встретил детишек своего возраста, присоединился к ним, стал играть в их игры, научил их, уж верно, своим, потому как всякие игры были его настоящим призванием, неизменным на протяжении всей его жизни. Он понравился своим новым товарищам, соблазнив, по-видимому, и их свободой от заведенного в мире порядка – играли они до темноты, пока за ними не пришли родители и не увели их домой. Ганс отправился с ними, и, поскольку дети не хотели с ним расставаться, а их родителям он тоже приглянулся, его оставили сначала на ужин, а потом и на ночь – он хоть и знал свое имя, но не знал, где живет. Мы провели ту ночь без Ганса, его не было, он исчез, может, упал в Рейн, а может, его украли, во всяком случае, что-то, видно, стряслось, и родители были в панике. Утром любезные хозяева, приютившие Ганса, сообщили о малыше в полицию, и, поскольку там уже знали о его исчезновении, за ним немедленно приехали. Незнакомое семейство отзывалось о мальчике с большой похвалой, особенно о том, как он молится за столом и перед сном. Было похоже, что и сам он неохотно расстается с ними. Мы же очень обрадовались, что он снова с нами, и всем с гордостью рассказывали о том, какой у нас необыкновенный брат и какие с ним приключаются истории.