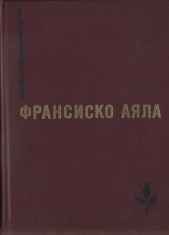Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну, а мы — именно поэтому — могли не торопиться. Даже более того, могли и присесть на минуту.
Отдохнуть, дать выход скопившимся впечатлениям. Я предложил графу посидеть. Имея в виду два обстоятельства: что даже эта малость вина обернулась ему во вред — на голодный желудок, да еще при полуденном зное. И что духовно он тоже, наверное, быстро утомляется, особенно будучи в непривычном обществе; видимо, этим и вызвана его экстравагантная выходка.
Перед эргёдскими домами на улице еще сохранились низенькие скамеечки — распиленные на плахи стволы орешин. Я высмотрел наиболее тенистую, и мы кое-как примостились на сиденьице, сложившись чуть ли не втрое, словно складные аршины. Мы очутились в прохладе посреди раскаленного и вымершего, как Геркуланум, селения.
Я ошибался. Граф не выказывал ни малейших признаков опьянения или подавленности. Несомненно, стилистический сбой объяснялся шаткостью познаний в венгерском, ну и разностью общественных уровней. Сейчас же, с исчезновением первой причины как бы исчезла и вторая. Мы впервые оказались с глазу на глаз с графом.
Мой портсигар остался лежать на кухонном столе. Но я был застрахован от подобной забывчивости. Во внутреннем кармане пиджака у меня всегда хранилась щепотка табаку и бумага. Я свернул самокрутку, закурил.
— Может, желаете? Хотя бы такую? — перехватил я его жадный взгляд.
Я скрутил еще одну, образцово-показательную цигарку. Протянул ему — смочить слюной.
— Докончите сами, прошу вас. — И он показал на свои дрожавшие пальцы.
Затем, после первой затяжки и первой волны никотина, смывающей усталость:
— Я совершил gaffe?
— Ну, что вы!
— Я вел себя, как Теди.
— Вы никогда не будете вести себя, как Теди.
— Вы наблюдали за мной, я это чувствовал. Я скомпрометировал вас?
— Вы — меня? До чего же мы так договоримся!
Он положил руку мне на колено.
— Когда речь зашла о том, удостоите ли вы мой дом посещением (вот как!), женщины сказали: вы придете, чтобы понаблюдать за нами.
— Как детектив?
— Не кипятитесь. Мы ведь говорим начистоту, не так ли? Вы затем придете к нам, сказали они, чтобы изучить наше теперешнее ambiance [117].
«Ambiance» по-французски означает то же, что мы, венгры, называем укоренившимся у нас в языке словом «milieu» [118].
— Но к чему мне это?
— Вы воссоздали как бы одну сторону жизненной медали ваших уважаемых родственников, а теперь, полноты ради, взялись лепить оборотную сторону…
— В их жизни не ваша среда составляет оборотную сторону медали.
— Они взаимосвязаны, и самым теснейшим образом. Это одна материя!
— Как масло и пахта, пожалуй.
— Вы осмелитесь утверждать, что вас никогда не занимала жизнь тех, против кого — только не сочтите лестью с моей стороны — направлены ваши столь восхитительно колкие фразы?
— Осмелюсь. Вернее, занимала в очень малой степени, лишь косвенно.
— Когда вы отдавали себя политике.
— Когда слушал психологию. Меня заинтересовало, как влияет на психику сознание власти. На эту тему имеется обширная литература, излишне было бы пересказывать ее. Опасность, которую таит в себе власть приобретенная, относится к сфере психопатии; опасность власти унаследованной, полученной без заслуг и борьбы, много ближе к психозу.
И на этот раз неожиданный поворот разговора поразил графа; взгляд его весьма неуверенно блуждал по моему лицу, так что я невольно добавил:
— В одном случае — это область нарушений психики, в другом — разума.
Он поморгал. Чувствовалось, что он спрашивает, только чтобы выиграть время, чтобы как-то собраться с мыслями:
— А наша теперешняя жизнь?
— Жизнь аристократов в теперешней Венгрии?
— Под каким углом зрения сейчас вы склонны ее рассматривать?
Внезапно мне припомнилась одна сцена. Я знал о ней понаслышке, но она, очевидно, относилась к числу тех сцен, которые вызывают ощущение, будто мы не только слышали, но и видели, пережили их. Речь шла об одном пятнадцатилетнем мальчике. В доме для трудновоспитуемых детей составляли его, что называется, биографию. Его перевели туда из приюта для беспризорных. Судьба мальчика была полна злоключений, и в немалой степени из-за его фамилии. Несколько оттаяв душой среди благожелательных белых халатов, мальчик — еще раз повторив свою фамилию — вдруг встрепенулся. «Нельзя ли переделать ее на венгерский лад?» — спросил он, и в тоне его звучала мольба. Мальчика звали Зичи [119].
Я хотел рассказать о нем графу с двоякой целью. Прежде всего показать на примере, что в глубине сознания у каждого понятие «мадьяризировать» означает приблизить к народу: вернуть человека из касты обособленных. И затем развить точку зрения, достойную более долгих размышлений. А именно: какие огромные усилия понадобилось приложить аристократии, чтобы возбудить к себе подобную ненависть, причем ненависть не к отдельным ее представителям — тогда бы основания для антипатии могли быть случайными, — а ко всему классу, ко всей его структуре в целом!
Но граф по-прежнему размышлял над услышанным ранее.
— И вы вмещаете всю историю венгерской аристократии в одну главу психопатологии?
— С вашего позволения, в две. И только новейшую ее историю. Да и то я высказываю всего лишь предположения. Совсем не наверное она туда попадет.
— Ну, и слава богу! Могу я в компенсацию получить еще одну цигарку?
— Не наверное и то, что история или литература сохранит достаточно материала, достаточно ценных упоминаний об аристократии.
— О самом историческом классе?
— То, что в литературе он канет в безвестность, — это теперь несомненно. Нет и, судя по всему, уже не будет произведения, которое бы воссоздало для потомков верную картину жизни магната нового времени.
— Неужели совсем нечего написать о них? Кое-что мы все-таки делали!
— Например?
— Ну, если ничего иного, то хотя бы историю. Какую ни на есть, но историю.
— Правление страной действительно находилось в ваших руках: верхняя палата, палата представителей, двор, церковь — все! Верно и то, что это правление привело нацию к одной из крупнейших в истории катастроф. Однако сам путь к катастрофе прокладывался словно ощупью — столь слепо, лениво, примитивно, с таким отсутствием преднамеренности и предвидения, столь безвольно, стало быть, настолько неисторически, что о действиях, об активной роли не может быть и речи, не говоря уже о роли «исторической». И поэтому вам не резон обижаться, но я с чистой совестью могу утверждать, что в венгерской историографии, не считая одной-двух сносок, земельная аристократия не оставит никакого следа.
— Только в психопатологии? Хорошо хоть, что мой рассудок выдерживает это.
И он от души рассмеялся: вот ведь, чего только люди не нафантазируют.
— Но тогда…
Поднявшись со скамеечки, мы уже снова шагали по главной улице.
— Тогда мы по крайней мере составим отличную коллекцию типов, — снова рассмеялся граф, доверительно беря меня под руку. — Расскажите еще что-нибудь! — попросил он, отбросив тлеющую, докуренную до ногтей цигарку. Я затоптал ее, задержавшись на шаг, и потому лишь с некоторым опозданием выполнил его просьбу.
— Доводилось ли вам знать кестхейского князя?
— Превосходно.
— И вы бывали в Кестхее?
— Конечно.
— Тогда, наверное, вам случалось проезжать на машине из Кестхея на юг, по балатонскому тракту.
— И даже верхом на лошади.
— Отличная дорога; и такой она была во все времена. А от Кестхея до Уйфенека, параллельно этому великолепному тракту, в каких-нибудь двухстах метрах от него проходит еще одна дорога. По обе стороны заботливо обсаженная прекрасными деревьями. Ее на рубеже века проложил кестхейский князь.
— Вот как?
— Да. Потому что князь ежедневно выезжал на машине в одно из своих отдаленных поместий, куда, кстати, прямехонько вел и обычный тракт. Но князь считал оскорбительным для своего достоинства передвигаться по той же дороге, какой пользуются простые смертные.