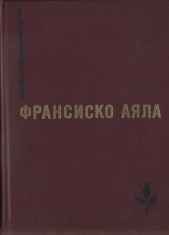Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы всегда ездили.
— Такова традиция?
— Очевидно.
— Эта карета, запряженная четверкой, своего рода передвижной трон, не так ли? Тот, кто сидел на нем, определенно знал, что привлекает всеобщее внимание, что на него смотрят, дивятся, оборачиваются вслед. Здоровое ли это чувство? Собственно, подобное выставление себя напоказ известно как сексуальное отклонение и называется специальным термином: «эксгибиционизм».
— А если так поступает целый слой?
— Следовательно, весь этот слой страдает эксгибиционизмом.
Мы посмеялись. Затем граф сказал:
— Для меня большое удовольствие ходить пешком, да еще по такой красивой крестьянской улице.
— Никогда не слыхал, чтобы улицу называли «крестьянской».
— Ну, а как назвать улицу, если на ней живут одни крестьяне?
— Никак. Просто улица.
— Как это можно?
— Слова, добрые старые слова, судя по всему, более устойчивы, нежели люди. Дольше сопротивляются.
— Чему?
— Подобострастию. Кастовому делению.
Тут он опять долго смеялся, качая головой: вот ведь, оказывается, какой я редкостный выдумщик.
Но мы уже подходили к дому, где я надеялся раздобыть вино.
12
Для этого нам пришлось пройти из конца в конец всю главную улицу. Здесь я, как летописец, склонный к социологическим наблюдениям, попутно отмечу один поучительный факт. То, что я в воскресный день прогуливался по главной улице в обществе графа, улыбаясь и непринужденно беседуя, — и даже более того, один раз подал оброненную им зажигалку, — в глазах крестьян не бросало ни малейшей тени на мою репутацию; а я слыл тогда весьма радикальным приверженцем народа. И еще одно. Когда говоришь как посторонний с одним человеком, никогда нельзя знать, есть ли вера твоим словам. Обратись к пятидесяти, и это сразу станет ясно. Независимые крестьяне окрестностей Эргёда — они почти не принимали участия в разделе земли, поскольку земля у них уже имелась, — с изрядной долей недоверия относились ко многим явлениям последних времен, в том числе и к тому, что «даром досталось» бывшим конюхам и батракам. Случалось, что на какой-нибудь сходке и я выходил на трибуну защищать правоту обитателей пусты. Спокойно и беспощадно я выкорчевывал в их сознании корни опрокинутого декретами феодализма. С первой же минуты устанавливалось такое внимание, что буквально сам слышишь — чувство далеко не обычное, — как в словах твоих звучит подлинность благородного металла… Тем часом мы добрались до дома моего родственника по пастушеской линии.
Можно подумать, действительно существовала особая масонская ложа для пастухов! И члены этой разбросанной по всей пусте семьи, подобно кротам, сообщались друг с другом подземным ходом. Кого же мы увидели в комнате рядом с хозяевами дома? Того самого сухонького старшего пастуха в бекеше до щиколоток, который выполнял роль первого дипломатического курьера.
Какая честь! Все встали: мужчины, вытирая усы — так как в этот момент сидели за обедом, — женщины, зардевшись или слегка покраснев, в зависимости от возраста (то есть насколько работа продубила кожу).
Я вынужден быть нескромным: этот почет относился ко мне. Старик, который в дни прохождения здесь фронта — как то утверждали злые и добрые языки, — рисковал жизнью ради графа и которого я, встретив в пусте, обычно приветствовал, лишь слегка касаясь шляпы, и он, кстати, отвечал примерно тем же, здесь поднялся навстречу мне с распростертыми объятиями и, сияя во все лицо, представил семье. Точнее сказать, обрисовал меня со всех сторон: и чей я сын, и брат, и внук, и чьему внуку двоюродный дядя, а какому брату троюродный сват. Все они были пастухами! А потому, из запутанного клубка родственных связей были извлечены на свет божий титулы совершенно незнакомых мне старших конюхов, пастухов и подпасков, неизвестные даже понаслышке Яноши, Иштваны и Йожефы, а еще того больше Катерины, Лидии и Марии — словом, народу набилось едва ли не целая пуста, и все возникали из прошлого, ничем не отличимые друг от друга, будто племя кротов, копошащихся в земле под бескрайним полем.
Впрочем, и здесь, в этой комнате, толпилось немало из названных: женщины и мужчины — все скопом, — молодые и старые.
Пожалуйте к столу. (Нет, нет, не будем мешать.) Откушайте с нами. (Никак нельзя, нас ждут дома.) Ну хотя бы отведайте пирога! (Не обращайте на нас внимания.) Не погнушайтесь нашей скудостью! (Ну, разве что кусочек.)
В конце концов они быстро управились с трапезой под ободрительные наши «пожалуйста» да «не стесняйтесь».
Как я понял, за вином мы пришли туда, куда следовало. Хозяин тотчас послал жену за посудой. Какого вам? Этого? Твое здоровье, племянник! Позвольте мне вас так называть. Если б видел нас сейчас мой бедный кум Яни!..
Это мог быть только мой отец, поскольку его тоже звали Яношем. Я знал, как полагается отвечать в таких случаях:
— Ну, тогда позвольте, дорогой дядя…
— За твое здоровье, дорогой племянник…
Затем он поднял стакан в честь графа:
— За ваше здоровье…
Но обращение застряло у него в горле.
Вино было превосходное. Для похвалы его тоже существовала традиционная формула:
— Давно ли в Эргёде стали пить такое отменное вино?! С какого виноградника?
Наступила небольшая пауза.
— С поделенного участка! — напрямик выпалил один из парней.
Потому что лучший виноградник поместья крестьяне из Эргёда поделили между собой.
Мои зрачки проделали путь до самых уголков глаз — в сторону графа, — но без малейшего движения головы. Нет, я был уверен: он даже не заметил, какой силы молния ударила рядом.
С самого начала, как мы переступили порог, то есть после того, как я отвернул щеколду и постучал в деревянную решетку дверей (ею забирают наружные двери понизу, для защиты от домашней живности), разговор, естественно, велся на языке венгров. Да вдобавок к тому же на эргёдском говоре, отличающемся редкостной скороговоркой, когда слова на вас сыплются точно горох, — особенность, должно быть, унаследованная нами еще от каких-нибудь печенегов. Граф понимал все. Живыми, все более разгорающимися глазами следил он за нагромождением родословных связей. Ему пришлось по вкусу вино в стакане, который — даже если граф отпивал всего один глоток — тотчас же снова наполнялся до краев, как предписывали приличия.
Его, казалось, не задевало и то обстоятельство, что разговор — вернее, эта дробная скороговорка — вертелся отнюдь не вокруг его особы. Старый, усохший в своей одежде дядюшка Шебештьен поначалу пытался было адресовать графу угодливые улыбки, но вскоре и его захватила эта стремительная, как блеск клинков и бряцание лезвий, беседа — и тема! Все новые и новые пастухи и их жены восставали из небытия где-то под далеким небом еще крепостных времен. Я вынужден был признать, что… Но что, собственно, мог я чувствовать к ним? Я пришел к выводу, что меня вовсе не радует генеалогическая принадлежность к определенному клану, каков бы он ни был, даже с его членами мне нужна общность иного типа. Да, но они! Они стояли неколебимо: что стало с этим, да что вышло из того, кто на ком женился да ровня ли она ему? Я с удивлением должен был констатировать, что попал в не менее кастовую среду, чем та, которую мы оставили, направляясь сюда.
Новая среда оказалась даже на свой лад еще более замкнутой. Старый граф все оживленнее вертел головой из стороны в сторону, со все большим желанием вставить хоть словечко в общий гомон. Но напрасно. Его оставляли вне этого круга.
Мало-помалу выжили и меня. Членом родовой общины я был теперь уже только в моменты, когда опрокидывалась очередная стопка — то есть когда требовалось мое, так сказать, физическое участие.
Это почувствовал и хозяин дома, мой дядя и тоже Янош (высокий, прямые плечи, округлое лицо). И стал все чаще поднимать заздравные в честь гостей.
— За твое здоровье, племянник.
— За всех присутствующих, дядюшка.
— Ваше здоровье, товарищ!