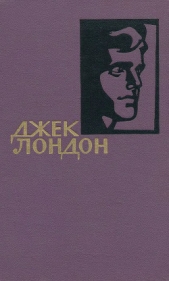Сонаты: Записки маркиза де Брадомина

Сонаты: Записки маркиза де Брадомина читать книгу онлайн
Творчество Валье-Инклана относится к числу труднейших объектов изучения. Жанровое и стилистическое разнообразие его произведений столь велико, что к ним трудно применить цельную исследовательскую программу. Может быть, поэтому Валье-Инклан не стал «баловнем» литературоведов, хотя и давал повод для множества самых противоречивых, резких, приблизительных, интуитивистских и невнятных суждений.
Для прогрессивной испанской литературы и общественности имя Валье-Инклана было и остается символом неустанных исканий и смелых творческих находок, образцом суровой непримиримости ко всему трафаретному, вялому, пошлому и несправедливому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наступил вечер, и снова явились обе седые дамы, шурша своими черными шелковыми платьями. Княгиня поднялась и поздоровалась с ними голосом любезным и совсем слабым:
— Где вы были?
— Мы обегали всю Лигурию!
— Как, вы?..
Увидав испуганное лицо княгини, обе дамы с улыбкою посмотрели друг на друга:
— Расскажи ты, Антонина.
— Расскажи ты, Лоренчина.
И обе принялись рассказывать наперебой. Они слушали проповедь в соборе. Они отправились в монастырь кармелиток, чтобы осведомиться о здоровье матери настоятельницы, которая болеет. Они помолились перед святыми дарами. Тут княгиня остановила их:
— А как себя чувствует мать настоятельница?
— До сих пор еще не выходит из кельи.
— Кого же вы там видели?
— Мать наставницу. Бедняжка такая добрая, такая любящая! Ты не можешь себе представить, сколько она расспрашивала нас о тебе и твоих дочерях. Показывала нам рясу для Марии-Росарио. Пришлет на примерку. Сама ее шила. Говорит, что эта уже последняя: она почти совсем ослепла.
Княгиня вздохнула:
— А я и не знала, что она ослепла.
— Еще не ослепла, но глаза у нее совсем стали слабые.
— Но ведь не так уж ей много лет.
Едва найдя в себе силы договорить, усталым движением княгиня снова поднесла руки ко лбу. Потом она взглянула на двери, где появилась изможденная фигура синьора Полонио. Остановившись на пороге, мажордом отвесил низкий поклон:
— Вы разрешите, ваша светлость?
— Говори, Полонио. Что случилось?
— Пришел ризничий из монастыря кармелиток с рясой для синьориты.
— А она это знает?
— Она уже примеряет.
Услыхав это, другие дочери княгини, которые, усевшись в круг, вышивали мантию святой Маргариты Лигурийской, едва слышно обменялись несколькими словами и вышли из комнаты, весело перешептываясь, похожие на девственниц с картины Сандро Боттичелли. {12} Княгиня посмотрела им вслед — на лице ее появилась материнская гордость. Потом она знаком приказала мажордому уйти, но тот вместо этого подошел ближе и тихо сказал:
— Я уже последние фигуры Крестного пути {13} отделал. Сегодня начинаются процессии страстной недели.
— Ты что же, думал, я этого не знаю? — с презрительным высокомерием сказала княгиня.
Мажордом, казалось, был поражен:
— Что вы, ваша светлость!
— Но раз так…
— Когда мы стали говорить о религиозных процессиях, ризничий обители кармелиток сказал, что те процессии, которые обычно устраивает ее светлость княгиня, в этом году могут не состояться.
— Почему?
— По случаю кончины монсиньора и траура в доме.
— Это не имеет отношения к религии, Полонио.
При этих словах княгиня нашла нужным вздохнуть. Мажордом поклонился:
— Разумеется, ваша светлость, разумеется. Ризничий именно это и говорил, когда увидел мою работу. Ваша светлость уже знает… Крестный путь… Я надеюсь, что госпожа княгиня соблаговолит посмотреть.
Мажордом остановился, церемонно улыбаясь.
Княгиня кивнула головой в знак согласия и тут же, повернувшись ко мне, с легкой иронией сказала:
— Ты, может быть, не знаешь, что мой мажордом — большой художник.
Старик поклонился:
— Художник! В нашу эпоху художников нет. Художники были только в давние времена.
Со свойственной моему возрасту бесцеремонностью я вмешался в их разговор:
— Ну а вы-то в каком веке живете, синьор Полонио?
— Вы правы, ваша светлость, — улыбаясь, ответил мажордом, — по правде говоря, я не могу утверждать, что это мой век.
— Ну да, вы принадлежите к временам более классическим и более отдаленным. Какого же рода искусством занимаетесь вы, синьор Полонио?
— Всеми, ваша светлость! — смиренно ответствовал синьор мажордом.
— Вы истый потомок Микеланджело.
— Если я занимаюсь всеми искусствами, ваша светлость, это еще не значит, что я во всех преуспел.
Княгиня улыбнулась с той деликатной иронией, в которой одновременно сквозили и высокомерие и ласковое снисхождение к старому мажордому:
— Ксавьер, тебе надо взглянуть на его последнее произведение. Крестный путь! Это настоящее чудо!
Обе старушки по-детски восхищенно всплеснули своими высохшими руками:
— Если бы в дни молодости он надумал поехать в Рим! О!
Мажордом, растроганный, плакал:
— Синьоры! Мои благородные покровительницы!
Внезапно послышался гомон молодых голосов, которые всё приближались, и спустя несколько мгновений в зале появились все пять сестер. На Марии-Росарио была белая ряса, которую ей предстояло носить теперь до конца дней; остальные сестры толпились вокруг, глядя на нее как на святую. Завидев их, княгиня встала и побледнела еще больше. На глазах ее выступили слезы, и она напрасно старалась сдержать их. Когда Мария-Росарио подошла, чтобы поцеловать ей руку, она обняла ее и нежно прижала к груди. Она не сводила с нее глаз и не могла подавить горестного стона.
Я был до такой степени растроган, что голос мажордома доносился до меня словно сквозь сон. После того как все долго молчали, он заговорил:
— Если я заслужил эту честь… Простите меня, только это слабое творение моих грешных рук сейчас унесут отсюда. Раз вы хотите видеть его, пойдемте, времени совсем мало.
Обе дамы поднялись, громко шурша складками шелковых платьев:
— О да! Пойдемте!
Еще до того как мы вышли из комнаты, синьор Полонио приступил к своим объяснениям:
— Надо вам сказать, что фигуры Назареянина и Киринеянина {14} остались старые. Моей работы только фигуры иудеев. Я вылепил их из папье-маше. Вы знаете мою давнюю страсть делать маски. Это поистине страсть, и одна из самых пагубных. Она завлекает людей на карнавалы, а ведь это празднества сатаны. Здесь до этого никогда не носили масок, но после того как я роздал всем мои маски из папье-маше — да простит меня господь! — лигурийские карнавалы прославились на всю Италию. Пожалуйте сюда.
Мы вошли в большую залу, окна которой были закрыты. Синьор Полонио побежал открывать их, а потом вернулся, рассыпаясь в извинениях, и мы вошли.
Я остолбенел: посреди комнаты стоял постамент, а на нем — фигуры Иисуса Назареянина и четырех страшных бородатых иудеев. Обе дамы в умилении плакали.
— Подумать только, сколько господь наш выстрадал за нас!
— Да, подумать только!
Не приходилось сомневаться, что благочестивые синьоры, глядя на этих четырех иудеев, одетых как солдаты Карла II, {15} старались представить себе в воображении всю трагедию страстей Христовых. Синьор Полонио расхаживал вокруг постамента и косточками пальцев тихонько постукивал по головам четырех свирепых христоубийц:
— Все это из папье-маше! Да, синьоры, так же как и маски! Сам даже не знаю, как я до этого додумался.
Молитвенно сложив руки, дамы повторяли:
— Какое вдохновение!
— Вдохновение свыше!
Синьор Полонио улыбнулся:
— Никто, ни один человек не верил, что я смогу воплотить эту идею… Надо мной смеялись. Теперь, наоборот, все стали моими доброжелателями. И я им прощаю насмешки! Целый год я вынашивал этот замысел!
Слыша это, обе синьоры только повторяли:
— Вдохновение!
— Вдохновение!
Иисус Назареянин с растрепанными волосами, мертвенно-бледный, окровавленный, согнувшийся под тяжестью креста, пронзал нас своим угасающим кротким взглядом. Его окружали четверо свирепых иудеев, одетых в красные одежды. Шедший впереди трубил в трубу, двое других, следовавшие за ним по правую и левую руку, несли каждый по бичу, а шедший позади показывал народу приговор Пилата. В руках у него был свиток нот, и мажордом предусмотрительно пояснил нам, что во времена язычества почерки были хуже, чем в наши дни, и люди писали каракулями, очень похожими на наши нотные знаки. Обернувшись ко мне, он с важным видом настоящего ученого продолжал: