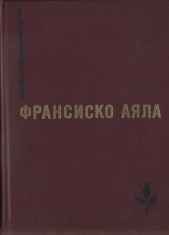Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бреющимся электрической бритвой зеркало заменяют кончики их пальцев; а кончики пальцев особенно чувствительны в темноте. С тех пор как я перешел на электрическую бритву, случается, я месяцами не вижу смерти. Я беззаботно старею, отгородись от всех должников своих и кредиторов.
Не осталось ли где щетины на подбородке, я проверяю левой рукой, на левой кончики пальцев более чувствительны. Тем самым сразу убиваешь двух зайцев. Осязательные нервы, не в пример нервам зрительным, хотя и точнее скажут мне о пропущенном волоске, о морщинах предупредительно не обмолвятся ни словом. Преимущество первое. Но есть и другое: сколько бы я ни водил пальцами по своей физиономии, отыскивая огрехи, всякий раз я, в сущности, ласково поглаживаю, утешаю самого себя. Воскрешаю в памяти жест, каким в пору далекого детства касались мальчишеского лица взрослые, и чаще других, конечно, моя мать, вкладывая в тот жест всю свою нежность ко мне.
Что пора бы отдать себя под контроль светочувствительным нервам — эта мысль обычно приходит мне на ум с приближением субботы. Но для рандеву с самим собою здесь, в этом уединенном тиханьском доме, мне необходимо перейти в другую комнату, вернее, подняться на второй этаж, где стоит шкаф, в дверцу которого женщины — по моде, завезенной из Франции, — велели врезать зеркало.
Однако неделю за неделей я забываю про зеркало и потому не попадаюсь самому себе на глаза. Так что отображение мое месяцами пылится в больших городах, подкарауливая меня где-либо в витринах, в зеркальной глубине которых прохожий, обозревающий выставленные товары, на заднем плане (позади декоративных цветочных ваз, ночников или дамских шляп, да, пожалуй, и по ценности тоже не случайно попавший туда) вдруг натыкается на собственный портрет.
На дворе март, а я с начала года, пожалуй, еще и не видел себя. Ну, а в прошлом году?
Чтобы установить в точности, когда же мы расстались, приходится возвратиться в далекое прошлое. Проблему ужинов мы разрешили в Копенгагене довольно просто: ужиная дома, в небольшом уютном номере миссионерской гостиницы, пробавляясь преимущественно молоком, несравненным молоком датских ферм. Через неделю врожденная галантность и желание сделать приятное близкому человеку толкнули меня на бунт против экономии. В то время как вдохновительница бережливого отношения к карману задержалась в молочном павильоне, который по чистоте соперничал с провизорской, я подступил к стерильно чистой витрине ближайшего гастрономического магазина. Тут рыба всех сортов, устрицы, морские и речные раки предлагали себя наперебой, в расчете на всякий вкус — в натуральном виде и заливными, в маринаде и засоле, выложенные на фарфоровые блюда и на пластмассовые тарелочки, в открытых коробках и закрытых; вся эта снедь наступала со стеклянных полок, идущих ярусами из глубины витрины. Дальняя стена витрины — дабы подчеркнуть чистоту ее и приумножить изобилие — была забрана огромным зеркалом. На нижних полках разместились более дешевые продукты, разные салаты и пикули; мне пришлось присесть на корточки, чтобы прочитать обозначенные на маленьких ярлычках цены. В памяти моей и посейчас живо то лицо из глубины витрины: чревоугодие и скаредность встретились со мной глазами, выглядывая то из-за консервированных маслин, то из-за банок с огурцами.
К старости у человека вытягивается нос. О чем нас известил еще Костолани [6] и тотчас утешил шуткой: все мы вешаем нос, расставаясь с жизнью.
Уши к старости тоже пускаются в рост. И об этом также мне известно не из учебника анатомии, а из дневника помышлявшего о самоубийстве Дриё ла Рошеля [7]. Он тоже не удержался, чтобы не прокомментировать этот факт убедительно и с литературным блеском: «L’homme montre, en prenant de l’âge qu’il n’est qu’un âne» — с годами по человеку становится видно, что он не более как осел.
Так, стало быть, все мы уныло бредем по неминуемому пути? Но на путника, на его внешний облик можно взглянуть и иначе. Нос вытягивается в длину оттого, что только теперь он унюхал какой-то след; а уши растут оттого, что всегда навострены: как бы нам не пропустить чего мимо ушей.
Самая непослушная часть человеческого лица, безусловно, нос. И неуклонное его разрастание мы, пожалуй, еще могли бы принять снисходительно, если не с чувством успокоения. Тем более что существует теория, вернее, давний спор между коротконосыми в большинстве своем англичанами и аборигенами Южной Франции, обладателями горбатых носов, которые утверждают, будто бы нос — свидетельство незаурядного ума, если не следствие его. По этой теории, увеличившийся к преклонным годам нос есть признак зрелого разума или — можно и так сказать — его неотъемлемое условие.
Но факт, что красноречивее носа ни одна часть человеческого лица не отражает той борьбы, которую душа наша ведет с бренностью плоти. По сравнению с глазами или ртом нос куда более своенравен. Подурнеть самым каверзным образом — это он умеет; но не без того, чтобы сохранить при этом известную внушительность и даже задор. Наверное, есть своя логика, и отнюдь не случайная, в том, что клоуны, шуты на масленичных гуляниях и актеры commedia dell’arte в своих масках больше всего подчеркивали уродство носа; если образ трагикомического казался им недостаточно броским, они привязывали к носу огромный стручок перца из папье-маше.
Именно поэтому женщины, направляемые верным инстинктом, едва осознав, что их чувство прекрасного затронуто мужчиной не первой молодости, на лице, пробудившем симпатию, в первую очередь отмечают нос и стараются дать ему свою оценку. С обособлением носа и другие части лица — губы и впадины глаз — тоже становятся более выразительными; обретя независимость, они обретают свой голос.
Над страдальческими ужимками шута мы смеемся лишь потому, что они сменяются мгновенно. То же самое выражение боли или отчаяния на лице, будь переход к нему более плавным и более естественным, вызвало бы у нас не смех, а слезы.
Время, что с постарением нашим неистово ускоряет свой бег, преображает нас примерно в таких вот шутов. Старинному приятелю по школе, с которым, по глубокому нашему убеждению, мы виделись какой-нибудь месяц назад (на самом деле минуло лет пять), нам больше всего хочется задать вопрос: «Чего это ты опять над собой учудил?» Столь смешной — и глубоко ранящей — нам кажется гримаса, наложенная старостью на его лицо. А все потому, что перемены застали нас врасплох.
Избитый прием комедиографов — нагромождать к финалу трюки: тем самым «напрягаются» динамика действия и диафрагмы зрителей. Мольер оставлял свои комедии незавершенными, а если завершал их, то финал был горек. Человека, участь человеческую он принимал всерьез. Ни Смерть, ни распорядитель ее — сам господь бог — не принимают нас всерьез. Остается только один ответ, достойный человека: мы тоже не будем принимать их всерьез.
Однако я умею владеть собой. Нет во мне той, впрочем не столь уж редкой, страстишки подмечать в других людях признаки старости. В себе же самом я их высматриваю с каким-то упоительно-горьким наслаждением, с удовлетворением подозрительного свойства. Но чтобы я за кем-то стал подглядывать! Наблюдать человека в минуты его воссоединения со смертью вряд ли более пристойно и этично, нежели застичь его в высший момент любовного экстаза. Сопричастность к обеим ситуациям даже в смысле права быть свидетелем — неотторжимая собственность индивида. А подтверждается это мое наитие тем фактом, что, и встречаясь со смертью, человек не борется с нею, но, сливаясь, растворяется в ней.