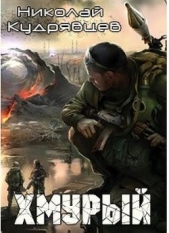Пик (это я)

Пик (это я) читать книгу онлайн
В рубрике «Из классики XX века» — повесть американца, представителя литературы «бит-поколения» Джека Керуака (1922–1969) «„Пик“ (это я)». Перевод Елизаветы Чёрной. Рассказчик, одиннадцатилетний чернокожий сирота, колесит на попутках по Америке со старшим братом, безалаберным талантливым музыкантом. Детский, еще не замутненный опытом взгляд на мир.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Джек Керуак
Пик (это я)
Повесть
1. Я и мой дед
Никто никогда не будет любить меня так, как я сам, если не считать моей матери, но она умерла. Дед мой такой старый, что отлично помнит, что произошло сто лет назад, но, что было на прошлой неделе или вчера, не скажет. Папаша ушел от нас так давно, что уже никто и не вспомнит, как он выглядел. Мой брат являлся каждый воскресный вечер в своем новом костюме, приходил со старой дороги и торчал перед домом, а мы с дедом сидели на веранде, качаясь в креслах и болтая. Брат не обращал на нас никакого внимания, а в один прекрасный день ушел и не вернулся.
Мы сидели одни, и дед сказал, что пойдет кормить свиней, а мне велел идти чинить забор и добавил:
— Я видел, как через этот забор сто лет назад перелез Господь, и скоро Он придет снова.
Тетя Гастония, запыхавшись, подошла к забору и подтвердила, что так оно и было, она тоже это отлично помнит, и что она вообще видела Бога столько раз, что и не перечесть. И все повторяла: «Аллилуйя, аллилуйя», и сказала:
— Все это есть в Евангелии, и все это правда. Малыш Пикториал Ревью Джексон (это я) должен ходить в школу, чтобы научиться читать и писать.
А дед посмотрел на нее, как будто собирался, пожевав табак, плюнуть ей в глаза, и ответил:
— Да я не против, — да-да, так и сказал, — только Господь в эту школу не заглядывает, и Пик потом никаких заборов чинить не будет.
И я пошел в школу, и днем вернулся домой, а в той школе никто толком не знал, откуда я взялся, говорили: небось из Северной Каролины. Ну и что? Говорили, что я самый черный мальчик в школе, черный-пречерный. А я всегда это знал, потому что видел, как мимо нашего дома проходили белые мальчики, и розовых, голубых, зеленых, оранжевых тоже видел, и черных, но такого черного, как я, среди них не было.
Короче, мне и дела не было, я развлекался, лепил из земли отличные куличики (это я еще совсем маленький был), пока не смекнул, что здесь что-то не так и что они ужасно воняют, а дед посмеялся надо мной с крыльца, попыхивая своей старой зеленой трубкой. А однажды мимо проходили двое белых мальчишек и, завидев меня, прокричали, что я черный выродок, ниггер. Я ответил, что прекрасно знаю. Еще они крикнули, что я сопляк и не догадываюсь, зачем они пришли, а я ответил, что у них на веревке отличная лягушка. Один из них сказал, что это никакая не лягушка, а ГАДЕНЫШ. Он это так сказал — громко-прегромко, — чтобы я ускакал за тридевять земель, а потом они сами побежали по холму за домом моего деда. А я понял, что такое Северная Каролина и кто такие гаденыши, и до самого утра мне все это снилось.
Мистер Данастон разрешал мне сидеть с нашей старой собакой на ступеньках своего магазина на перекрестке, и я каждый вечер там сидел, и лучше ничего быть не могло — я слушал, как поют по радио, песни были такие простые и красивые, что я выучил одну, потом — две, а вскоре — целых семь и напевал их. Однажды приехал мистер Отис на своем большом старом автомобиле, купил мне две бутылки «Доктора Пеппера», и я отнес одну домой деду; дед сказал, что мистер Отис — очень хороший человек, и что он знал его отца, и когда-то давным-давно знал отца его отца, и что они были славные ребята. Я был с дедом согласен и согласен, что «Доктор Пеппер» — классная штука и всегда чертовски приятно щиплет язык. Представляете, как мне было здорово?
Ладно, а теперь расскажу, с чего все началось. Покосившийся дедов дом, казалось, вот-вот рухнет; он был из широких досок, их сколотили, когда они были еще новыми, только что из леса, но потом доски рассохлись и стали похожи на трухлявые стволы мертвых деревьев. Крыша, казалось, сейчас съедет с опор и упадет деду на голову, но он не обращал внимания и продолжал сидеть на крыльце, качаясь в своем кресле. Внутри дом был как выеденный и высохший кукурузный початок — пустой, морщинистый и чистый, будто нарочно приспособленный, чтобы бегать по нему босиком. Я спал с дедом на огромной скрипучей продавленной кровати, и комната, в которой она стояла, тоже была огромная. У порога спала наша собака. Мы не закрывали входную дверь до самой зимы. Я ломал ветки, дед бросал их в печь, а потом мы сидели около нее и ели тушеное мясо с горохом и зеленью. У меня была бо-о-ольшущая ложка, и я работал ею, пока живот не вываливался наружу из штанов, если, конечно, было что есть. Еду нам приносила тетя Гастония, но не каждый день, иногда раз в неделю, а то и реже. Бекон, мясо и сухари. Перед домом дед выращивал бобы, а за забором — кукурузу; остатки жесткого мяса, которые не могли прожевать, мы кидали свиньям. Собака тоже его подъедала. Дом стоял в поле. Перед домом была разбитая песчаная дорога, по которой проходили мулы, а иногда проезжали большие грузовики, поднимая облака пыли высотой в целую милю. И я, вдыхая эту пыль, говорил себе: «Ну почему бы Господу не сделать это место чуточку чище?» И после этой мысли обязательно чихал. Ну а дальше был перекресток и магазин мистера Данастона, а за ним — сосновый лес, и каждое утро прилетала старая ворона, усаживалась на ветку и каркала, пока не охрипнет, и я повторял за ней «каррр-каррр» и хохотал, каждое утро хохотал, так меня это смешило. По другую сторону дороги была табачная лавка брата мистера Данастона и большой-пребольшой дом, в котором жил мистер Отис, а почти что посередине поля дом миз Белл, которая была такой же древней, как и мой дед, и тоже курила трубку. Эта миз меня любила.
Представляете: каждую ночь, когда и тут, и там, и во всех домах все спят, слышно только, как где-то в лесу ухает старый филин, пищат летучие мыши, воют собаки и стрекочут в темноте сверчки. А иногда «чух-чух» — в той стороне, где ГОРОД. А вот чего нельзя услышать, это как плетет паутину старый паук. Я иду по дому и попадаюсь в его липкую паутину, она рвется, и я стряхиваю ее с себя: этот чертов паук опять хотел поймать меня в свои сети. Высоко-высоко в небе мигают сотни звезд, а здесь, на земле, так сыро, будто только что прошел дождь. Я залезаю в кровать, и дед говорит: «Держи свои мокрые ножищи от меня подальше!» Но они быстро высыхают, и тогда я засовываю их под одеяло. Потом смотрю в окно на звезды и засыпаю.
Видите, как весело мне было тогда?
2. Что случилось
Бедный дед однажды утром не смог встать с кровати, и каждый, кто приходил от тети Гастонии, говорил, что он умирает от горькой жизни. А я положил голову на его подушку, и он сказал мне, что это неправда, и слабым голосом молил Господа, чтобы тот убрал из дома всех, кроме старого верного пса. Он сидел рядом с кроватью и лизал деду руку. Но тетя Гастония выгнала его: «Пшшшел вон!» Она вымыла мне лицо водой из шланга, а потом засунула в ухо уголок тряпки и стала пальцем ввинчивать его внутрь. Я чуть не умер. И заплакал. И дед тоже заплакал. Сын тети Гастонии носился взад-вперед по дороге, иногда забегая к нам и тут же уносясь прочь, ужасно быстро — вжик-вжик; никогда не видел, чтоб кто-нибудь так бегал. Потом приехал мистер Отис на своем большущем автомобиле и остановился прямо перед домом. Мистер Отис был сильный, высокий, с желтыми волосами (да вы и сами знаете). Он вспомнил меня и вздохнул:
— Что с тобой теперь будет, малыш?
Потом он подержал деда за руку, приподнял ему веки, выудил из черного чемоданчика такую штуковину, которой он слушает своих больных, и стал слушать деда. И все подошли поближе и тоже стали слушать. Тетя Гастония вытолкала сына из комнаты, а мистер Отис положил ладонь на грудь деда и пальцами другой руки стал по ней постукивать, и тут вдруг его взгляд встретился с дедовским, и тогда мистер Отис постукивать перестал.
— Эх, старик… — сказал он. — Как себя чувствуешь?
Дед ухмыльнулся, показав желтые зубы, и хохотнул:
— Дай-ка мне трубку, мою волшебную трубку.
И дед подмигнул мистеру Отису.
Никто не понял почему, один только мистер Отис понял, а дед засмеялся, прямо затрясся от смеха, точно дерево, по которому карабкается опоссум.