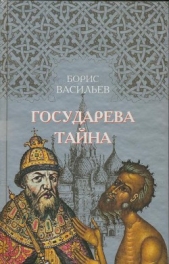Государева почта. Заутреня в Рапалло
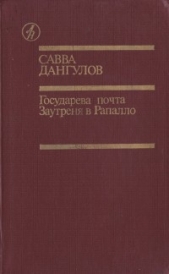
Государева почта. Заутреня в Рапалло читать книгу онлайн
В двух романах «Государева почта» и «Заутреня в Рапалло», составивших эту книгу, известный прозаик Савва Дангулов верен сквозной, ведущей теме своего творчества.
Он пишет о становлении советской дипломатии, о первых шагах, трудностях на ее пути и о значительных успехах на международной арене, о представителях ленинской миролюбивой политики Чичерине, Воровском, Красине, Литвинове.
С этими прекрасными интеллигентными людьми, истинными большевиками встретится читатель на страницах книги. И познакомится с героями, созданными авторским воображением, молодыми дипломатами Страны Советов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В братстве русских гонимых, будь то Париж или Лондон, Чичерин никогда не жил лучше других. Те, кто помнит его парижское житье–бытье, сберегли в памяти его более чем скромное жилище в пригороде французской столицы с овальным окном под потолком, которое было столь сумеречным, что письменный стол пришлось водрузить на специальный помост, чтобы быть ближе к свету. Те, кто знал его по лондонской страде, помнят его комнату, заваленную книгами, — было нечто петербургское в этой чичеринской каморке: лондонский Ист — Энд напоминал Черную речку, где сановный Петербург поселил бедных мастеровых и студентов. Да и сам Чичерин своим обликом сделался похожим на бедного департаментского служащего: холодное деми, ботинки, полуприкрытые теплыми гамашами, большой шерстяной шарф вокруг шеи — с дет* ства он был подвержен простуде и старался держать горло в тепле.
Наверно, он мог жить лучше: ему удалось перевести за границу немалые суммы, доставшиеся по большому чичеринскому завещанию. Но он справедливо полагал, что деньги принадлежат не столько ему, сколько русскому мужику, добывшему их своим потом. Следовательно, у этих средств может быть единственно разумная статья расхода: русская революция. Как свидетельствовали старые партийцы, лондонский съезд финансировался и из чичеринских сумм.
Но вот что обращало внимание: съезд начался и завершился, а в чичеринскую папку, которую завела на него английская тайная полиция, легла строка, несмываемая. Не было строки важнее для полицейских клерков весной семнадцатого года, когда русские хлынули на родину. Бдительные клерки не без деятельной подсказки российского посольства решили установить своеобразный фильтр для возвращающихся на родину.
На лондонской Чешем плейс, где находилось российское посольство, послу Набокову противостоял Чичерин. Да, именно Чичерина колония русских изгнанников облекла правом говорить с посольством. Чичерин был резок, быть может впервые в своей жизни так резок: известный каламбур об Александре Федоровне и Александре Федоровиче, которым не моргнув глазом попеременно служил Набоков, принадлежал Чичерину и был произнесен во время аудиенции на Чешем плейс. Посол дал на это свой ответ: по сигналу с Чешем плейс Чичерин стал узником Брикстонской темницы — союзническая солидарность обретала и такие формы.
Но ответственность за Брикстон несли и англичане, при этом не в последнюю очередь Ллойд Джордж — его правительство упекло Чичерина в брикстонские застенки. Революция своеобразно ответила и Ллойд Джоржу, сделав узника Брикстона министром иностранных дел и послав его во главе делегации новой России в Геную. Конечно, тут есть и случайное стечение обстоятельств, Ллойд Джордж мог и не знать об аресте Чичерина, а назначение Георгия Васильевича главой делегации могло быть сделано и вне связи с брикстонским эпизодом, но у истории хорошая память: человек может забыть и, пожалуй, простить, история — никогда. По крайней мере Ллойд Джордж, садясь за стол переговоров с Чичериным, не может не знать, что собой представляет делегат русской революции и какой смысл несут лондонские страницы его биографии.
«Если согласен мистер… Чи–чи–че-рин!» — в этой формуле, казалось, была полная мера терпимости. Однако как оно будет на самом деле?
Б этот раз наш автомобиль как бы набросил на холм десять колец одно уже другого, и мы на Куарто–де–Милле у монументальных врат виллы «Альбертис». А врата, как и ограда, идущая от них, действительно монументальны: все сложено из камня, очевидно добытого где–то рядом, и построено на века. Рисунок парадных ворот и ограды, как и сам камень, из которого они возведены, повторен в особняке: видно, обширная усадьба «Альбертис» возводилась с одного удара и не перестраивалась, поэтому стиль ее так един.
Хозяин виллы вызван по делам в город, и нас встречает его молодая супруга, в которой светскость сказывается и в умении завязывать узелок беседы, при этом и на отвлеченные темы. Тех двухсот метров, которые легли от ворот до особняка, было достаточно, чтобы историю особняка на генуэзском холме Куар–то–де-Милле воссоздать в деталях. Ну, разумеется, это фамильное гнездо. Оно построено триста лет назад и ревниво охранялось от посторонних даже в пору столь грозных событий, как минувшая война. Не без раздумий хозяева дали согласие на то, чтобы вилла стала резиденцией Ллойд Джорджа. Отдать виллу даже на несколько недель значит непочтительно обойтись со святая святых семьи — ритмом жизни, что складывался столетиями и казался неколебимым. Но к хозяевам виллы обратился кто–то из сильных мира сего, и строптивость была укрощена. Хозяева обнаружили покладистость, не свойственную д'Альберти–сам, и удалились во флигель. Только подумать: во флигель!
А сейчас молодая д'Альбертис шла, полусклонив голову, небольшая, светловолосая, белолицая, бог знает как уберегшая лицо от здешнего свирепого солнца; впрочем, на высоте одиннадцати колец холма Куарто–де–Милле солнце, возможно, и не так свирепо, как у моря. Рассказывая, она то и дело обращалась к Красину — то ли его английский вызывал в ней большее доверие, то ли то изящество врожденное, которое было свойственно ему и позволяло вопреки сединам выглядеть моложе. В те редкие минуты, когда Красин поднимал глаза на молодую женщину, взгляд его был заметно пристален и строг. О чем он мог думать в эту минуту? Наверно, он раздумывал над тем, что зтой молодой женщине нравится амплуа хозяйки большого поместья, что у нее есть потребность обнаружить перед русскими гостями это свое качество и что она тут, наверно, чуть–чуть подражает своему мужу, который сейчас в городе договаривается о поставке дополнительных десяти тонн угля, чтобы британский премьер не дай бог не замерз на вилле «Аль–бертис». И еще мог думать Красин: а нельзя ли, глядя на жену, заметно влюбленную в своего супруга, представить себе его облик? В самом деле, какой он, этот граф дАльбертис? Наверно, коричневобородый итальянец, бронзоволицый и массивный, именно такой может быть без ума от маленькой блондинки… Нет, есть смысл отдать себя игре воображения, засечь возвращение графа д'Альбертиса из города и проверить себя: такой он?
— Когда я думаю о Моцарте, я зову на помощь пушкинское «Моцарт и Сальери»… Зову на помощь! И знаете, что мне кажется прозорливым в толковании Моцарта, как его понял Пушкин?.. Именуйте это как хотите, но тут существо Моцарта: тема смерти… Пушкин точно пробудил эту мелодию, она у него звучит как предчувствие трагического конца, как видение гробовое, а на самом деле обнажает Моцартову тему, близкую сути его музыки… Простите меня, но Пушкин это ухватил с превеликой прозорливостью. Не скажу ничего нового, если напомню: ложное представление о Моцартовой веселости — это как раз то, что мешает нам подойти к композитору. Это восприняли не столько современники Моцарта, сколько наши современники, познавшие композитора так, как его при жизни не знали, как, впрочем, и вскоре после смерти. Пушкин был одним из первых, кто проник в это. Да не пророческим ли было вот это пушкинское: «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь мне кажется, он с нами сам третий сидит…» Но Пушкин в точном соответствии с существом Моцарта перебил тему смерти иронией — она точно луч солнца рассекает мрак. Это Моцарт говорит Сальери:
«Да, Бомарше ведь был тебе приятель; ты для него «Тарара» сочинил, вещь славную. Там есть один мотив… Я все твержу его, когда я счастлив… Ла–ла–ла-ла… Да, именно чередование солнца и мрака, отчего солнце резче и мрак непобедимее. Не об этом ли говорит и конец этого пассажа? Вот он: «Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого–то отравил?» Вызывает изумление, с какой точностью поэт тут провидел. Есть свидетельства о предсмертном часе Моцарта, именно предсмертном: уже холод сковал его члены, уже тьма подступила к глазам и уже сомкнулись губы и ничто не в состоянии было их разъять… Нет, простите, они отворились, и отворила их улыбка. «Известный всем я птицелов, я вечно весел, гоп–саса!» — не пропел, а прошептал Моцарт песенку своего Папагено и с песней этой на устах ушел в мир иной… Моцарт!.. Говорят, что «Моцарт и Сальери» была единственной пушкинской вещью для театра, которая увидела сцену еще при жизни поэта. Мы–то знаем, что это достойно.