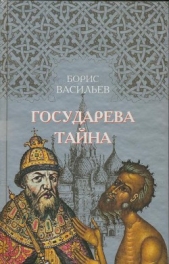Государева почта. Заутреня в Рапалло
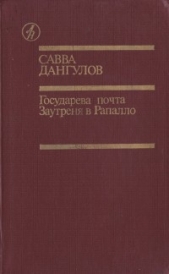
Государева почта. Заутреня в Рапалло читать книгу онлайн
В двух романах «Государева почта» и «Заутреня в Рапалло», составивших эту книгу, известный прозаик Савва Дангулов верен сквозной, ведущей теме своего творчества.
Он пишет о становлении советской дипломатии, о первых шагах, трудностях на ее пути и о значительных успехах на международной арене, о представителях ленинской миролюбивой политики Чичерине, Воровском, Красине, Литвинове.
С этими прекрасными интеллигентными людьми, истинными большевиками встретится читатель на страницах книги. И познакомится с героями, созданными авторским воображением, молодыми дипломатами Страны Советов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот ритуал встречи был и торжествен и тих — были поцелуи, но не было слов. Пока он длился, этот ритуал, я имел возможность поднять глаза на Маццини — я прежде не видел его вот так близко. В глубине его глазниц, емких, заполненных сизым ненастьем, поместились маленькие глаза, серые, очень светлые. Когда брови вздымались, веки смежались и глаза как бы уходили вглубь. Одна бровь была перечеркнута шрамом ярко–белым, косым — явно след сабельного поединка, видно, у почтенного пастьгря молодость была неуемной.
— Я только что перелистал вечерние газеты — Италия признала итальянское происхождение вашего министра, не отреклась, а именно признала, — произнес он.
— Простите, но о чем это говорит?
— О многом, но прежде всего о его дебюте в Сан — Джорджо!.. Должен сказать, что это было внушительно… — Он задумался, остановив где–то над головой руку, не успевшую отбить очередной такт. — Италия признала в вашем министре чисто итальянскую черту: уступчивость по форме и неуступчивость по существу…
В конце аллеи возникли очертания автомобиля — очевидно, машина, которую итальянец отпустил некоторое время назад, вернулась за ним.
— Мне было бы приятно видеть тебя в школе. — Маццини обратил взгляд на Машу. — Если тебе удоб-
но, — уточнил он. — Я, разумеется, пригласил всех… — Он указал на молодых людей, стоящих в стороне.
Маша не отвечала — она была слишком горда, чтобы просить меня.
Молчание Маши становилось неловким, и я спросил ее:
— Как ты, Мария?
— Я… готова… — ответила она, не поднимая глаз.
— Ну что же… возвращайся не поздно — завтра у нас много работы, — мог только произнести я, иной ответ был бы сейчас бессмыслен.
Они ушли. Садовая дорожка была наклонна, и я долго видел всю группу. Маццини и Маша шли впереди, он говорил, а она внимала, подняв голову, — не очень–то она была кротка и тем более послушна в эту минуту. А чуть поотстав, шла вся гвардия Маццини, они точно взяли в полукольцо идущих впереди, как бы отсекая путь к отступлению, захочешь убежать — не убежишь… Странно сказать, но в том, как шли сейчас эти люди, спускаясь к морю, мне привиделся конвой и под стражей была моя дочь, при этом я должен был признаться, что сам ее отдал под стражу.
Они ушли, а я едва добрел до садовой скамьи на тяжелых железных лапах, да так и просидел до того дредвечернего часа, когда прохлада, идущая от моря, завладевает парком. Это была та минута, когда окружающее виделось мне в кривом свете сумерек. По крайней мере все казалось зыбким, все хотелось подвергнуть сомнению, все, что прежде представлялось верным, сейчас я склонен был предать анафеме… Вот тут, на этой скамье, брошенной в угол санта–маргерит–ского парка, в свете этих лиловых сумерек, будто обескровивших сам мир, мне привиделось, что я совершил нечто непоправимое. Я не в состоянии был исследовать истоки этой ошибки, но мне было ясно, что это была ошибка. Что–то я переоценил, во что–то поверил больше, чем должен был поверить. Я вернулся в отель и, не зажигая света, лег — сон помогает совладать с самой горькой минутой…
Она проникла в комнату неслышно, как мышь, но я проснулся — видно, дало себя знать что–то такое, что помогало опознать ее во тьме — вот эта привычка, не зажигая света, опуститься на стул и затаить дыхание. Она сидела во тьме не шелохнувшись, а я думал: она обратила против меня и эту тьму, заклиная меня не казнить — в ее безгласной тираде должно быть раскаяние.
— Ты… вернулась, Мария? — спросил я и подумал: этот мой вопрос можно было понять и расширительно.
— Вернулась, — произнесла она едва слышно и замкнулась в молчании, долгом. — А я, признаться, думала, что беспокойство не даст тебе сна, — наконец произнесла она почти неприязненно: нет, она не будет угрызаться, не похоже на нее.
— Как ты нашла их? — спросил я: мне хотелось разговора по существу. — Даже время не способно совладать с ними…
— Время? Куда ему… Кстати, он просил нас с тобой быть у него в пятницу…
— Ты находишь, что нам надо быть у него?
— А почему бы и не быть? — Как обычно, на вопрос она отвечала вопросом — легче спрашивать, чем отвечать.
— Рерберг был там, Мария? Она тихо встала, пошла к окну.
— Нет, не был, но мог быть…
— Он в Специи или в Генуе?
— В Генуе…
Вот так–то: Рерберг в Генуе. И вновь, как там, на садовой скамье, мне стало худо: что–то очень важное, что было сутью нашего житья–бытья, рушилось, продолжало рушиться.
— Значит, мог быть?
— Мог.
— И будет?
Она пододвинула стул к окну, села.
— А откуда мне знать?
Я заметил: она всего лишь отвечала на мои вопросы. Без того чтобы я ее спросил, она почти ничего не сказала. Почти.
Мудрено дождаться паузы в том водовороте дел, который увлек нас в Генуе, но, кажется, эта пауза, скоротечная, заявила о себе, и я спешу ею воспользоваться:
— Георгий Васильевич, скажите, пожалуйста: мотором того, что можно условно назвать… чичеринской образованностью, был Борис Николаевич?
— Конечно. — В его ответе слышится категоричность, не очень свойственная ему, — очевидно, его ответ лишен сомнений.
— Вы это чувствовали и на себе?
Он точно вспыхивает: для него в этом вопросе скрыт немалый смысл. Известно, что Борис Николаевич души не чаял в племяннике. Их отношения сложились еще в караульские годы молодого Чичерина. Надо отдать должное Борису Николаевичу: у него была сила провидения, если из всех молодых он отдал предпочтение Георгию Васильевичу. А то, что это было так, с достаточной точностью указывает завещание Бориса Николаевича, по которому караульские движимость и недвижимость, оцененные суммой крупной, оставлялись сыну брата. Чтобы принять такое решение, у старшего Чичерина должны были быть достаточные основания. Какие именно? Очевидно, вера в способности племянника. Но не только это. Надо знать Бориса Николаевича, чтобы оценить и иное: жажда знаний, столь характерная для юного Чичерина, его работоспособность, беззаветная, могли импонировать Борису Николаевичу, пожалуй, больше, чем что–либо иное. Вряд ли Борис Николаевич сделал бы свой выбор, если бы тут у него не было уверенности.
— На себе чувствовали?
По тому, с какой охотой, чуть самозабвенной, он откликается на мой вопрос, у него есть потребность обратить меня к своим думам, быть может сокровенным.
И вновь воспоминания века минувшего как бы накатываются на нас…
В большом караульском доме у семьи младшего брата были комнаты, которые она издавна считала своими. Борис Николаевич был рад семье брата — этому немало способствовала натура невестки, характер ее интересов, ее увлечения. Жоржине Егоровне были не чужды познания в дипломатической истории России, она любила музыку и живопись, сама хорошо рисовала. Она сумела сообщить свои пристрастия детям. В домашнем архиве родителей Жоржины Егоровны были документы, воссоздающие с завидной зримостью события, которые уже заволокла дымка времени.
В длинные зимние вечера раскрывались старые бювары, и на столе возникали бумаги, казалось напитанные запахами старины. Но бумаги, даже столь необычные, так бы и остались бумагами, если бы не рассказы Жоржины Егоровны — событие обретало черты события истинного. Дети придумали игру, поводом к которой явилась бумага, извлеченная матерью из старого бювара. Но это была не единственная страсть, которую мать сообщила детям, — в семье писали музыку, при этом и дети. Сохранились записи ранних опытов Георгия, самых ранних. В смысл названий надо еще проникнуть — они написаны по–старославянски: «Бла–жени вой», «Помышляю день страшный», «Придите и видите». И рядом: «Соч. 11 лет», «Соч. 12 лет», «Соч. 12 лет в 1884 г.». У всех трех опусов церковный зачин. Это тоже мать — она была религиозна.
Мать сумела удержать образ жизни семьи и после того, как Чичерины переехали в Петербург. Теперь тамбовское приволье казалось «миром провинциальных полей и тихих палестин» — иная жизнь обступила Юру. Караульские вечера с играми в трактаты были своеобразно продолжены в Петербурге бабушкой. Дочь известного дипломата, бывшего вместе с царем Александром на конгрессе в Вене, она любила поговорить с внуками — в ее рассказах знатная старина не утратила тепла, она, эта старина, была у бабушки чуть–чуть озорной и нравилась детям. Но мир близких, которых хотел знать Юра, простирался дальше дома бабушки, хотя остальные родственники были сановнее, а поэтому недоступнее. Позже он скажет, что именно в Петербурге он научился ненавидеть высокомерное, брезгливое, выхоленное барство. Его язык, не утратив точности, обретал образность, которая потом станет знаком и его дипломатической переписки. Он так и говорил: высокомерное, брезгливое, выхоленное барство. Слова были тем более верными, что были опалены огнем обиды.