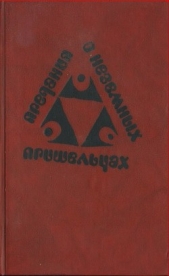Встреча. Повести и эссе

Встреча. Повести и эссе читать книгу онлайн
Современные прозаики ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Криста Вольф, Герхард Вольф, Гюнтер де Бройн, Петер Хакс, Эрик Нойч — в последние годы часто обращаются к эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Сборник состоит из произведений этих авторов, рассказывающих о Гёте, Гофмане, Клейсте, Фуке и других писателях.
Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Клейсту приходит на память строчка, которую сейчас он цитировать не хочет: «Какая женщина в свою поверит силу» [168]. В этой женщине, думает он, весь женский род мог бы обрести веру в себя. Общение с ней, хоть она и не влечет его как мужчину, близко к чувственному восторгу.
Она, словно думая о том же, вдруг говорит:
— Стоит нам помыслить настоящее, и оно уже прошло. Осознанное наслаждение — это всегда воспоминание.
Неужели и я, думает Клейст, когда-нибудь останусь в мыслях людей всего лишь трупом? И это зовется у них бессмертием?
Междувременье, думает она, — это некая сумрачная местность, полоса ничейной земли, где легко затеряться и загадочным образом пропасть. Меня это не пугает. Ведь и так наша жизнь изъята из наших рук. Я не всегда буду здесь, я не всегда буду. Значит, я неуязвима?
Вдруг, без причины, она смеется, сперва тихо, потом громче, потом во все горло. Ее смех заразителен, Клейст не в силах удержаться. Они корчатся от смеха, хватаясь друг за дружку, чтобы не упасть. В эту минуту они близки, как никогда.
Если люди — по злобе или неразумию, из равнодушия или из страха — считают нужным уничтожать некоторых особей своего, человеческого рода, нам, назначенным к уничтожению, выпадает невероятная свобода. Свобода любить людей и не ненавидеть себя.
Свобода постичь, что мы набросок — может, отбросят за ненадобностью, может, поднимут снова. Посмеяться над этим не зазорно и человеку. Обреченные — речем. Пленники своего дела, которое остается открытым, отверстым как рака.
О чем еще они говорят, о чем думают?
Мы слишком много знаем. Нас посчитают неистовыми. Наша неистребимая вера в то, что человек создан для совершенствования, — вера наперекор духу и ходу всех времен. А мир — мир поступает проще всего: безмолвствует.
Освещение изменилось. Все предметы, даже деревья, очерчены остро, четко и выпукло. Вдалеке слышны голоса, зовут Клейста. Карета на Майнц вот-вот отъедет. Гюндероде отпускает его кивком головы. Они прощаются невнятным движением руки.
Уже стемнело. Последний отблеск гаснет в реке.
Оба думают: просто идти, идти дальше.
Мы знаем, чтó потом.

Тень мечты
Набросок
<b>«Вчера читала „Дартулу“ Оссиана<a name="read_n_169_back" href="#read_n_169" class="note">[169]</a>, и сколь благотворно было это чтение! Давняя моя мечта — умереть героической смертью — охватила меня с силою необычайною; нестерпимой показалась мне жизнь, еще более нестерпимой — спокойная, дюжинная смерть. Не раз уже испытывала я неженское желание ринуться в гущу битвы, погибнуть там, — зачем я не мужчина?! Меня вовсе не привлекают женские добродетели, умильное семейное счастие. Лишь неукротимое, великое, блистательное влечет меня. Пагубен этот раздор в моей душе, но он непоправим. Так оно и останется, так и должно остаться, ибо я, женщина, питаю в себе мужские страсти, не обладая мужскою силой. Потому я так переменчива и вечно не в ладу с собой».</b> Необоримые предчувствия.
Человек сначала живет, а потом уже пишет — это трюизм, равно касающийся обоих полов. Женщины долго жили, не берясь за перо; а потом они писали — если позволено будет так выразиться — своей жизнью, ценою ее. Так оно с тех пор и повелось.
Диссонансы души, которые осознает на двадцать первом году жизни Каролина фон Гюндероде (1780–1806), — это недуг века, чего она еще не понимает. Отмеченная неизлечимой раздвоенностью чувств, наделенная даром выражать свою неудовлетворенность миром и собой, она прожила короткую жизнь, бедную событиями, но богатую внутренними потрясениями, отвергла компромисс, приняла добровольную смерть и, немногими друзьями оплаканная, едва ли кому известная, оставила — в главных своих частях неопубликованным — очень скромное наследие: стихи, прозаические отрывки, фрагменты драм; канула в забвение; через десятилетия, через целое столетие снова была открыта ценителями ее поэзии, взявшими на себя труд воскресить ее память и спасти ее рукописи, чудом избежавшие уничтожения. Но даже роман в письмах Беттины фон Арним «Каролина Гюндероде» (1840) не смог сохранить в памяти потомков хотя бы смутные очертания этой фигуры, едва сохранил имя. Немецкая история литературы, отданная на откуп штудиенратам и профессорам, ориентированная на колоссальные подретушированные портреты классиков, с легким сердцем и легкой мыслью избавлялась от объявленных «незрелыми» фигур — и так вплоть до недавнего прошлого, до рокового приговора, вынесенного Лукачем Клейсту и другим романтикам. Обвиненные в декадансе или по меньшей мере в безволии, в непригодности к жизни, они умирают во второй раз, — умирают от неспособности немцев выработать в себе историческое сознание, взглянуть в лицо коренному противоречию своей истории — противоречию, которое отлил в лаконичную формулу молодой Маркс, когда указал на то, что немцы разделили с современными европейскими народами опыт реставрации, не разделив их революционного опыта. Разорванный, политически незрелый, трудный на подъем, но скорый на соблазн народ, приверженный техническому прогрессу вместо гуманности, позволяет себе роскошь сваливать в братскую могилу забвения тех рано сломавшихся, что были нежелательными свидетелями задавленных надежд и опасений.
Не может быть случайностью то, что мы начали интересоваться нашими списанными собратьями, подвергать сомнению вынесенный им приговор, оспаривать его и требовать его отмены. Мы поражены открывшимся нам сходством, хоть мы и помним об эпохах и событиях, лежащих меж ними и нами: полностью повернулось «колесо истории», и мы, душой и телом втянутые в его круговорот, мы, только что переведшие дыхание, только что опомнившиеся и осмотревшиеся, — мы оглядываемся назад, движимые раз и навсегда пробудившейся потребностью понять самих себя, нашу роль в современной истории, наши надежды и их пределы, наши успехи и наши поражения, наши возможности и их границы. И, если возможно, всему этому причины.
Оглянемся же назад — нас встречают тревожные, за столь долгий срок не нашедшие успокоения взоры, к нам бегут и ранят нас в самое сердце строки, набросанные щедрым, летучим, разборчивым женским почерком на зеленых почтовых листках в четвертушку форматом (зеленый цвет щадит слабые глаза пишущей), и мы не без волнения берем в руки эти листки: «Век пигмеев, племя пигмеев вышли на сцену и стараются, как могут».
Поколение, к которому принадлежит Гюндероде, должно — как все поколения, живущие в промежуточные эпохи, — выработать новые формы жизни; последышами эти формы будут использоваться в качестве моделей, устрашающих примеров, шаблонов — кстати, и в литературе тоже. Это поколение, молодежь 1800 года, являет собой пример, утверждаемый для того, чтобы другие извлекали или не извлекали из него уроки. Готовые образцы для них не подходят. Опыт разит их прямо, безжалостно и врасплох. Новое буржуазное общество, еще даже не оформленное, но уже оскопленное, использует их как наброски, как предварительные заготовки, делаемые наспех и тут же отбрасываемые. Окончательные типы не должны на них походить — вот еще одно объяснение того, что сама память о них нестерпима. Единственность часа рождает их, но мимолетность его оседает печалью на их жизнях, и она же будоражит их, искушает соблазнами самых разных, полярно противоположных желаний, и они отдаются напряжению и риску — стараются, как могут.
Их немного. Предшественники их, идеологи и вожди Французской революции, апеллировали к римлянам, к испытанным и ложно истолкованным образцам: они обманывали себя, чтобы иметь возможность действовать. Вместе с миссией с плеч потомков спадает и тога, с самообманом кончается героическая роль. Зеркало возвращает им их собственное, незагримированное и нежеланное лицо. Юная поросль 1800 года не может отнести назад год своего рождения, мыслить мыслями старших, жить их жизнью. Условий своего бытия она не может отменить, а это жизнь на износ. Буржуазные отношения, в конце концов и без революции перекинувшиеся на эту сторону Рейна, хоть и не устанавливают решительно новых экономических и социальных порядков, зато возводят в закон всепроникающую филистерскую мораль, основанную на подавлении всего несгибаемого, оригинального. Неравный бой: жалкая кучка интеллигентов — авангард без тылов, как это часто бывало в немецкой истории после крестьянских войн, — вооруженная беспочвенным идеалом, утонченной чувствительностью, ненасытной жаждой применить на деле разработанный ею собственный инструментарий, — и косный, неразвитый класс, лишенный всякого самосознания, но зато полный верноподданнического усердия, ничего не усвоивший из буржуазного катехизиса, кроме заповеди: «Обогащайтесь!» — и силящийся привести безудержную жажду наживы в согласие с лютеранско-кальвинистскими добродетелями: прилежанием, бережливостью, дисциплиной; убогое, скудное существование, притупляющее восприимчивость к требованиям собственной природы, зато обостряющее болезненную чувствительность по отношению к тем, кто не хочет или не может ломать себя. И вот они — те, молодые — становятся чужеземцами в собственной стране, предшественниками без последователей, энтузиастами без отклика, глашатаями без ответа. А те из них, кто не согласен идти на удобный компромисс в духе эпохи, — жертвами.