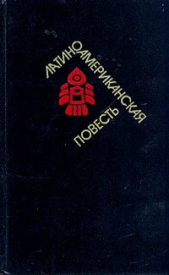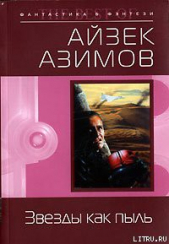Мы не пыль на ветру

Мы не пыль на ветру читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она не ошиблась. Насмешка оскорбила его, выбила почву из-под йог. И тотчас, как бы желая соблюсти дистанцию, он поднялся ступенькой выше и решительно сказал:
— Мы должны думать о завтрашнем дне, должны, не то…
Лея не дала ему договорить. Она указала на небо, словно видела там что-то, словно прислушивалась к чему-то. Язвительная усмешка сбежала с ее лица.
— Видите самолет? — спросила она. — Слышите?
Руди ничего не видел и ничего не слышал, но теперь у него не было такого чувства, будто его снова хотят высмеять. Да, в лагере ее окончательно доконали, подумалось ему. Теперь у нее навязчивые идеи. Порой во взгляде проскальзывает самое настоящее безумие. А потом она снова делается разумной и кроткой. Около нее и сам помешаешься.
Но Лея не замедлила с объяснением.
— Самолет нельзя увидеть или услышать. Слишком он высоко летит. Три недели тому назад жители Хиросимы тоже не видели и не слышали самолет. И это было последнее, чего они не видели и не слышали. Секундой позже их швырнуло на стены, и они сгорели, и остался после них лишь выжженный орнамент — как на глиняных черепках… — Она сгребла палкой гравий на ступеньке и продолжала: — Когда я думаю о завтрашнем дне, я слышу самолет. Я могу думать о чем угодно, мне всюду слышится и видится только одно: иссушающая смерть, пыль на ветру…
— Надо уметь смеяться, как этот Карел, — сказал Руди. — Ах, если бы мы умели так смеяться, самолет наверняка рухнул бы в море.
Но Лея покачала головой.
— Для смеха нужна надежная основа. А на чем стоим мы? Несчастье — неподходящая основа для смеха.
Руди не нашелся, что возразить. Он промолчал. Ему хотелось зажать уши, чтобы не слышать, как царапает палка по гравию. Лея прошла мимо него и распахнула калитку. В проеме калитки она задержалась. Буйные кудри горошка переваливались наружу через забор, тонкие усики искали опору в бархатистом воздухе, опору для нежно окрашенного цветочного ковра.
— Когда цветы раскрыты, — сказала Лея, — они напоминают чету бабочек — прижались хоботком к хоботку, он свои крылья расправил, она свои подняла.
И опять Лея была спокойной и кроткой. И наставительно говорила с ним. И наставительный тон, и спокойствие, и кротость необычно красили ее в этот поздний час совиных сумерек.
— Я называю эту калитку «прекрасная дверь», — сказала Лея. — Во-первых, потому, что ее можно открыть. Во-вторых, цветущий горошек напоминает мне облачка на высоком небе, если встать внизу, у подножия лестницы, и прищуриться и козырьком держать ладонь над глазами. В-третьих, потому что, поднимаясь по ступеням блока, я могу сказать: «Ну, сейчас меня на смерть огорошат…» Почему вы не смеетесь, Руди? Смейтесь же! Ну, три, четыре…
Вместе с ней он пошел луговой тропинкой, которая вела к лесу. И по дороге рассказал ей, что и он знает прекрасную дверь, высеченную из камня руками старого мастера. Мастер высек из камня цветы, побеги, лозы, и святых, и апостолов. А на замковом камне мастер изобразил пеликанов. Пеликан клювом разрывает себе грудь и кормит птенцов собственной кровью.
— Кто же этот пеликан? — спросила Лея так, словно он не раскрыл ей смысла своего рассказа.
Кто? Странный, неуместный, пожалуй, даже бестактный вопрос. Руди смутился, припомнил злобное бессвязное шипение и почувствовал, как малодушие снова овладевает им. Вот пришли ему на память слова, которые можно было перекинуть, как мост, к сердечному разговору. Но Лея, по-видимому, уже не хотела — или не могла? — воспользоваться этим мостом. Руди только и сумел, что дать совершенно излишнее объяснение, пеликан — это-де символ материнской любви. Но и объяснение его, излишнее объяснение, не достигло берега. Она резко перебила:
— Да, ван Буден уже наставлял меня но этому поводу, а до ван Будена — мой дядюшка, а еще раньше — бог ты мой, как давно это было, — еще раньше Залигер. — И продолжала свою речь, проталкивая каждое слово сквозь стиснутые зубы:
— До чего ж забавно, что все мужчины с таким жаром толкуют мне про пеликана и все выдумывают — от начала до конца… Пеликан, аист — сказки это… Смешная птица пеликан просто-напросто прижимает клюв к груди, чтобы легче отрыгнуть добычу из своего мешка — рыбу… Пет, когда мужчины рассказывают про пеликана, они подразумевают мужскую любовь — отцову любовь, дядюшкину, верную любовь… и все прочее. Я вечно слышу: пеликан, пеликан… а кто это, пеликан? Чего вы, собственно, хотите, Руди?
Совы уже давно разлетелись. Руди и Лея шли сквозь серый антракт между сумерками и ночью. Они подошли к скамье, что стояла наверху у наблюдательной вышки, там, где лес острым зубцом вклинивался в немецкую сторону долины.
— Чего вы, собственно, хотите, Руди?
Он уклонился от прямого ответа:
— Я ведь писал вам, чего я хочу и чего ищу.
И снова перед ним явилась кроткая и наставительная.
— А я вам писала, какого я мнения об этом. В прошлом осталось только одно— время… время — это целый мир… Чего же вы пугаетесь? Вы говорите «новый дух» и говорите «мировой дух» и еще бог весть что, а подразумеваете старую любовь… и не простую, а верную до гроба… Ах ты, господи…
Беспомощно, как прикованный цепью, сидел он рядом с ней на скамье, раскинув руки по деревянной спинке скамьи, и напруживался, играя силой, будто хотел разломать эту крепкую перекладину — как ломают ярмо. И спросил:
— А разве нет духовной любви?
— Я об этом уже думала, — отвечала Лея.
— Ну и?..
— Есть. Имя ей — примирение. Я хочу, чтобы вы помирились с Залигером, когда он вернется. Я сделаю для этого все, что в моих силах. Чем я еще могу быть, кроме как сестрой милосердия, доброй самаритянкой…
Он хотел расшевелить ее, протянул к ней руки. Она его оттолкнула.
— Нет, Руди, не спорьте. Здесь не о чем спорить… Но о чем, если вы до конца честны со мной — честны любя. Когда приспеет время, никто не может знать загодя, как ему следует объясниться… А теперь…
Внизу, в деревне словно запел колодезный журавль — виолончель Фюслера. Где-то дальше в долине завыла и ответ собака.
— Становится свежо, — наконец вымолвил Руди и встал.
Но Лея не последовала его примеру. Она продолжала сидеть, придерживая руками концы бахромы, как ленты соломенной шляпки. Сперва он остановился перед ней в выжидательной позе. Потом склонился к ней:
— Лея, Лея…
— Я уже старая, Руди, старая и страшная. Вот главный тезис.
— Ты прекрасна, ты прекраснее всех…
— Ночью все кошки серы, ночью разницы нет.
Он заставил ее откинуть голову назад, он шепнул:
— Лея…
Она уперлась кулаками ему в грудь.
Мягкая трава на опушке леса… А Лея упирается руками ему в грудь. Ветер улегся, молчат верхушки деревьев над их головами. Лишь журавль колодезный в деревне поет и поет не умолкая. А Лея упирается руками ему в грудь.
— Ты прекрасна, ты прекрасней всех….
Но кожа ее утратила свежесть, а грудь — упругость, и губы у нее сухие. Она упирается руками ему в грудь, она шипит ему на ухо:
— «…вернувшись, нашли пастухи прекрасное тело истлевшим под терновым кустом…»
А там, в деревне все еще поет колодезный журавль и льются сладкие каденции, то усиливаясь при подъеме, то ослабевая при падении. Но у каждой ступени — свое имя. И Лея не упирается больше руками в его грудь. Незачем теперь. Безмолвно, словно устав до смерти, лежит он рядом с ней. Там, где у пего ямка на шее, погти Леи впились в его тело и впиваются все глубже и глубже.
— Ну, кто пеликан?.. — шипит она.
И вдруг где-то рядом покашливание. И голос другой девушки говорит:
— Господин ван Буден прислал со мной одеяло для фрейлейн.
Сфинкс прячет когти. А глаза ее все еще горят передо мной — и в них желтый свет.
Катить вперед… крепко сжимать руль… катить все скорей, еще скорей… ira длинном уклоне за Зибенхойзером выключить скорость… пусть катит сама, груз тянет вниз, уклон увеличивает скорость, хлопает на ветру брезент. За поворотом должно расти старое дерево, оно чуть вздрогнет и снова зашелестит, будто ничего и не произошло… Как ничтожны, ах, как все ничтожны… Хильда не скажет больше: «Как хорошо, что ты со мной». Только ветер останется ей… Крепче держись за руль… Лишь бы не подвели тормоза. Он дает машине закончить разбег, нетвердыми ногами вылезает из кабины и бросается в траву, что растет на опушке вдоль дороги. Бросается и мгновенно засыпает. Но и во сне стоят перед ним желтые глаза Сфинкса, глаза совы…