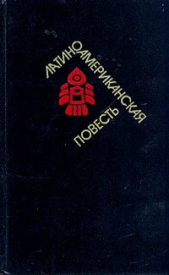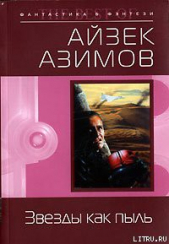Мы не пыль на ветру

Мы не пыль на ветру читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Фюслер задумчиво отпил из бокала. Он немного успокоился. Волнение сказывалось теперь лишь в замедленности речи.
— Я хочу честно признаться вам, дорогие друзья: лично я думал, что еще не достоин подобной чести, я искренне думал так. Я полагал, что останусь учителем в Зибенхойзере. Я думал, что советскую администрацию и новое немецкое руководство моя работа не удовлетворяет. Потому что, когда я несколько недель тому назад побывал с этой целью в Рейффенберге, некто с серым, как камень, лицом отвечал мне: «А как вы боролись с Гитлером, господин доктор? В свое время вы из протеста вышли в отставку. Вы никогда не употребляли в качестве приветствия «хайль Гитлер», вы не прибегали к «хайль Гитлер» и когда вызвались исполнять обязанности учителя в Зибенхойзере. Все это нам хорошо известно. Но считаете ли вы, что этого достаточно, чтобы занять сейчас пост, налагающий на вас столь высокую ответственность как на антифашиста?»
Такой вопрос задал мне человек с серым, как камень, лицом, после чего я ушел… А сегодня этот человек был здесь, здесь, за моим столом. Я имею в виду бургомистра, которого знаю много лет. С тех пор, как мы несколько недель назад виделись с ним в Рейффенберге, его лицо день и ночь преследовало меня. Сегодня можно встретить такие лица, которые представляются мне образцом высшей наглядности, символом немецкой трагедии.
За столом помолчали. Худое лицо Эрнста Ротлуфа — обтянутые кожей скулы, провалившиеся щеки, — худое, серое, как камень, лицо встало перед ними, и бескомпромиссная постановка вопроса встала перед ними, и искомый ответ, хотя все уже знали, как выглядит этот ответ на практике. Однако противоречие между вопросом и ответом побуждало их пересмотреть дело, И всем было ясно, что Фюслер как раз и ходатайствует перед ними о пересмотре своего дела, что он хотел бы получить от друзей подтверждение того, что уже было признано по административной линии: доверия к его личности. У людей щепетильных чужое доверие порождает доверие к себе самому.
Из деревни донесся звон кос. Еще отава стояла некошена, да попадался кой-где узкий клинышек яровых. И когда Хладек снова первым нарушил молчание, он оставил привычный тон дружеской насмешки. На сей раз он вполне серьезно сказал:
— Случаю было угодно, чтобы я родился чехом. И когда я из протеста подал в отставку в Карлсбаде, ко мне фашисты отнеслись не столь снисходительно. Они вступили в Прагу, и мое имя значилось в их списках. Я об этом догадывался, да и друзья предупредили меня. Поэтому когда гестаповцы пришли в мой дом, оказалось, что птичка улетела… Если ты на нелегальном положении, каждый камень тебе опасен, ибо от него отдается эхо твоих шагов. Имя надо менять так же часто, как и пристанище. Сорочку порой носишь дольше, чем имя. Нельзя жить на нелегальном положении в одиночку. Для этого нужны друзья. Без друзей подпольщик— человек вне закона — пропадет. Друзья в беде — я хорошо выучил эту песню. И я нашел друзей — друзей в жизни и в смерти. Увы, немало хороших друзей и славных ребят мы не досчитались на дорогах войны — кого поставили к стейке, кто погиб в стычке у насыпи… Карел… Как непостижимо скрещиваются порой жизненные пути людей. Карел шел через ночь вместе со мной, а Франциска — с Леей… — Хладек умолк, поглядел на лес, на излучину долины…
Но что случилось? Сфинкс стонет:
— Не надо, не надо… об этом… Ярослав, почему ты по привез ее?.. — раздаются стенания.
В излучине, там, куда смотрит Хладек, лежит богемская часть деревни Зибенхойзер. Но у нее нет теперь пи названия, ни души. Мертвая деревня неподвижно смотрит пустыми глазницами окон.
— Кто способен вернуть нам хотя бы одного-единственного Карела, одно-единственное человеческое счастье? — вопрошает Хладек.
Фюслер опять стягивает пальцами лоб, заслонив этим жестом глаза. А Ярослав Хладек продолжает:
— Я хочу сказать так: в том, что я стал коммунистом и сумел немного досадить гитлеровским бандитам, нет собственно моей заслуги. Я просто-напросто очутился в огне. И должен был бежать, чтобы не сгореть, чтобы спасти свою жизнь, и не только свою. Эх, если бы я мог тогда у насыпи спасти Карела. Я побежал… я хотел отвлечь огонь на себя. Он был нужнее. Он был моложе. И он погиб. Должно быть, я не плакал. Да, думаю, что нет. В тот час я оглох и высох от горя. Горе иссушает и оглушает. И может стать смертельным, если не закалит. Но что-то я все-таки сделал. Я побежал ради Карела. И это дало мне закалку. Я позволю себе даже сказать: счастье — уверенность — закалку. Когда идешь на бой за счастье человечества, броней тебе тоже должно служить чувство счастья… Когда Карел смеялся, цепные собаки снимали карабины с предохранителя… Тебе, Тео, не приходилось искать друзей так, как мне, друзей в жизни и в смерти, друзей, без которых немыслимо счастье. С тобой нацисты обошлись довольно-таки мягко. Незавидная участь для честного человека. А сейчас такие люди, как бургомистр, как Гришин, как фрау Поль, являются прямо к тебе на дом, находят тебя… а ведь у вас в Германии по-прежнему решается вопрос жизни и смерти… Словом, я хочу сказать: ты прав, если сегодня чувствуешь себя счастливым…
Ханхен, как сидела, сложа руки на коленях, так, сидя, и уснула, но когда Хладек умолк, тишина разбудила ее. Она вся залилась краской и сконфуженно глянула на Сфинкса. А Сфинкс исподтишка улыбнулась ей и покачала головой, словно дала понять, что никто ничего не заметил… и Ханхен поверила ей… Ван Буден, следя за развитием мысли Хладека, все время беззвучно шевелил губами, по-детски пухлыми губами. Иногда же он вытягивал их трубочкой, словно хотел освистать Хладека.
— Перефразируя начало вашей речи, могу сказать: случаю было угодно, чтобы я родился неарийцем, евреем. Я тоже был вынужден искать друзей, и тоже друзей в жизни и в смерти. Я только хотел сказать, господин Хладек, что я все-таки не сделался коммунистом. Разве образ мыслей человека возникает по случайности рождения или диктуется стечением обстоятельств? Да коль на то пошло, это теория хамелеона, теория приспособленчества к той почве, на которой ты стоишь или лежишь, куда ты поставлен или положен. А ваше представление о счастье! Я со своей стороны не хотел бы, как Счастливчик Ганс одеться броней счастья, окажись я на дорогах истории. В этом вопросе я придерживаюсь иных взглядов, а каких именно, позволю себе процитировать, — Он достал из внутреннего кармана своего серого пиджака записную книжку в мягком кожаном переплете и прочел вслух: — «Страдание — вот истинная родина человека, который хочет творить историю. Лишь тот, кто внутренне подвергает себя бедствиям, может понять ход событий и получает стимул изменить его. Пе замыкаться в себе, не принимать безропотно собственную гибель, не дожидаться, покуда все пройдет, чтобы затем жить как ни в чем не бывало, — вот необходимое условие для появления на свет его конкретной свободы».
Ван Буден закрыл книжечку и бережно, как драгоценность, спрятал в карман своего серого пиджака из тонкой шерсти. При этом он словно бы с торжеством заявил:
— Мне видится здесь также возможность развить идею Гегеля. Вспомните, к примеру, знаменитое изречение Гегеля: «Сова Минервы расправляет крылья лишь с наступлением сумерек…»
На сером шелковом галстуке ван Будена тускло поблескивает оправленная в золото жемчужина. Она величиной со стеклянную головку коклюшек, что торчат в подушечке у матери. Мать иногда еще любит по старой памяти пощелкать коклюшками. И сейчас мне тоже вдруг померещилось, будто этот крупный, пасторского вида человек не проговорил, а прощелкал свои слова. Сфинкс хватает его слова на лету и укрывается ими, словно дорогим кружевом. Хладек, тоже язвительно, спрашивает:
— Так как же бывает в жизни: разве человек или, скажем, масса внутренне, по доброй воле, подвергает себя бедствиям? Не наоборот ли, не извне ли подвержен он или она всем бедствиям классового общества? Люди должны работать, отдыхать, спать под мостом, идти на войну должны, должны и должны. Что-то я вас не понял, или вы не объяснились до конца, ван Буден.