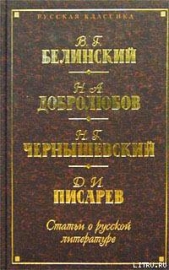«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
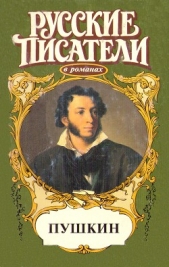
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У него самого не кружилась ли голова от прекрасных женщин? Сам он не бросал ли на ветер тысячи? Он засмеялся, пошевелясь на диване. Старческий ум его как-то очень удобно скользнул мимо простой истины, что он, владелец майората — неделимого имения, — обязан был обеспечить содержанием всю семью, а в нынешнем случае приданым — внучку... И ещё мимо того скользнул податливый ум, что непорядочно пользоваться порядочностью зятя.
Наоборот, подставляя одевавшему его лакею хлипкое тело марионетки, Афанасий Николаевич с удовольствием думал о том, что будущий зять смирен. И отнюдь не жох.
В подвалы спускались в сопровождении десятка лакеев, из коих одни несли зажжённые в трезубых подсвечниках свечи; другие поддерживали Афанасия Николаевича, бодренько семенившего изогнутыми подагрой ногами; а третьи — так, больше для шуму и представительности суетились впереди, убирая с дороги кое-какой хлам.
Статуя лежала головой в тёмный угол. Плесень, прах многолетнего забвения — всё осело на ней, и старик сам, не дожидаясь, бросился обметать платком, чтоб глянули: бронза, первейших статей бронза! До бронзы, впрочем, было далеко, и он заныл о нуждах Завода, о нерачительности слуг, а также о сорока тысячах, когда-то предлагаемых за истукана. Единственно затем не проданного, что надобно было ещё испросить высочайшего дозволения перелить царскую персону опять в металл. Но милостивый государь Александр Сергеевич легко добьётся при его-то связях и знакомствах...
Пушкин, почти невежливо не слушавший старика, рванулся от подножия к лицу истукана, будто оно должно было обнаружить ему нечто. Вживе лицо самой императрицы, что ли? Медное оказалось одутловато и слепо. Он щёлкнул статую высочайшей особы по носу: не мог отказать себе в мальчишеском удовольствии. Мелькнула мысль, тоже вполне мальчишеская, что в подобных обстоятельствах статуя Александра доставила бы ему куда больше удовольствия. Екатерина как-никак была для него всего лишь бабка. Бабка тех царствующих особ, при которых проходила его жизнь.
А старик кричал уже на слуг, замахивался палкой, приказывал мести, тереть, тыкал скрюченным пальцем в надпись на круглом подножии. Голос его становился визглив. В подвале пахло склепом, прошедшей судьбой... Метались тени, старик был страшен в своей беспомощности и жадности.
Пушкин смотрел на него издали: была непонятна страсть, может быть, сильнейшая — страсть старческого эгоизма. Скрюченные пальцы, нетвёрдо державшие палку, пытались схватить все радости жизни; на их оплату должны были пойти немногие тысячи, полагавшиеся в приданое Натали, любимой внучке. Во всеуслышание за столом сегодня объявленной — любимой.
Пушкин почувствовал, как кровь прилила вдруг к голове до звона в ушах: надоело играть комедию полного смирения. Даже непонимания той роли, какую ему отводило странное семейство. Но сейчас же эта вспышка погасла. Что, какие неприятности могли стать вровень с главным: она была его невестой?
ПЕЧАЛЬ МИНУВШИХ ДНЕЙ...
В Болдино [132] он приехал в первых числах сентября. Не успел управиться с делами, войти во владение выделенной отцом частью Кистенёвки, как обложили холерные карантины. Всё остановилось. Жизнь словно потеряла своё течение. Текли, то есть двигались только строчки на чистых листах бумаги. Мысль же, более того, обрела свойство дальнего и лёгкого полёта.
Только что, перед самым отъездом, 31 августа 1830 года он писал Плетнёву из Москвы в Петербург! «...московские сплетни доходят до ушей невесты и её матери — отселе размолвки, колкие обиняки, ненадёжные примирения — словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив...
...Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию, которой обязан я был Богу и тебе. Грустно, душа моя...»
Положение его опять — в который раз! — делалось неопределённым настолько, что в последних же числах августа он отправил невесте письмо, и в нём главными были строки: «Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, — я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать».
Но уже 9 сентября он пишет письмо совершенно другой тональности: «Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы поблагодарить вас и просить прощения за причинённое вам беспокойство.
Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило».
В следующем письме всё из того же Болдина, в котором, вопреки ожиданиям, поэт засел надолго, было и такое: «...Наша свадьба точно бежит от меня; и эта чума с её карантинами — не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка...»
Последнее могло означать только степень досады, пожалуй, даже бешенства. И то не на отсрочку свадьбы, скорее — на препоны. Но никак не всерьёз характеризовало намерение.
Погода шумела отличная: ветер рвал последние листья с деревьев, в лужах поднимал бурю. Верховые лошади здесь были совершенно посредственные, но он всё равно любил уезжать в степь. Ехал не по самой дороге, она заплыла грязью непроходимо, а обочь по жухлой и плотной траве. Что-то было в этих поездках непредсказуемое: куда повернёт конь, куда он сам вдруг направит его бег, какие мысли придут в голову, от чего сожмётся или сладко вздрогнет сердце.
Ему было хорошо в этих поездках, но ещё лучше после них, в тепле, слегка попахивающем мышьим суетливым житьём.
Мысли теснились, в руках была дрожь нетерпения. Чистые листы манили силой магнетической. Иногда он вскакивал и оглядывался, сам поражённый тем, что пришло в голову. Мороз пробегал по спине: вот сейчас, сейчас он скажет главное, как никто ещё не говорил. И была над всем мысль о том, о чём он нынче писал: возрождение любовью. Не поэзия, не труд его бесконечный и успешный, не дружба, не какой другой восторг — любовь заставляла его взглянуть на мир иным взглядом. Любовь придавала всему вокруг и во Вселенной другую окраску, обновляла...
Любовь семейная и — дом.
Он лежал на лежанке, почти уже остывшей, закинув руки за голову, и смотрел вверх, а потом в синее окно.
За окном выла живым, жалующимся, но и угрожающим голосом русская поздняя осень. То дождь, то крупка бились в окно, напрашивались в гости.
И вдруг он вспомнил — тугие паруса, и ветер совсем другого свойства. Его как бы даже покачнуло давней волной той давней и всё же никогда до конца не забываемой ночи. Ночь была прозрачная, а е неба, усыпанного звёздами, сыпалась блестящая и светящаяся пыль. Этот свет неизъяснимый, запахи и плеск волны волновали сердце особенно.
Весь восторг, вся непонятая радость юности была с ним. Он был напряжён не меньше тех парусов, что ровно гудели над головой...
Непонятая радость...
Ему тогда почти всерьёз казалось, что лучшая часть жизни прожита, осталась позади, наполненная коварством любви, лёгкостью измен.
Так думал он (во всяком случае, мог думать), лёжа в тёмной комнате старого, крепкого ещё, но неуютного болдинского дома. Между тем крупка билась в окно с прежней силой, унылой и безнадёжной в своих одиноких порывах...
Там на корабле была девочка, Мария Раевская, она мирно и сладко спала в каюте, утомлённая впечатлениями дня. Девочка. Или, как считалось по тем временам, девушка, совсем, правда, юная. Но именно в таких юных тогда влюблялись всерьёз. И он, кажется, влюбился. Впрочем, возможно, это была не любовь, но встреча с идеалом? Что понял он гораздо позже. Но всегда было чувство — встретилась душа необыкновенная, сильная даже в детских своих проявлениях. Она была пресерьёзная хохотушка, беззаботная на шестнадцатом году жизни, охранённая славой и любовью отца.