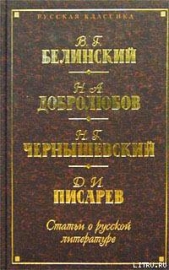«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
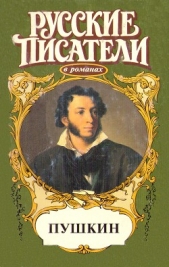
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Николай Павлович, отступив от зеркала, как бы мимоходом взглядывая на отражение, сделал свой особый, выкидывающий коленку шаг и сейчас же почувствовал, как досада вступает в него, затопляя почти стихийно. В самом деле, почему в своём дворце, в своём доме он должен — мимоходом? Это брат оглядывался, не видит ли кто, как он с сожалением рассматривает свою оседающую фигуру. И брату не следовало оглядываться, ибо не на кого оглядываться самодержцу. Кроме как на Бога...
Николай Павлович рассмеялся, представив, как Бог глядит на него сквозь эти утренние ясные, часто и правильно расставленные по небу облака. В мысли самой, в том, как привиделся ему старик, заключалось, конечно, нечто кощунственное. Но он был любим Богом, это он точно о себе знал. Так что — простится...
К тому же Отец Небесный не мог не любоваться им, так же, немного со стороны, как любовался собой он сам. Что ни говори, а счастлива страна, в которой царь молод и склонен действовать. (Любя движение чисто физическое, Николай Павлович путал это пристрастие с жаждой деятельности.) Да, страна была, должна была быть счастливой, а он — мимоходом... Хорошо, что досада и приступ гнева оборвались смехом.
Продолжая смеяться, Николай Павлович почувствовал некое превосходство и перед самим Богом. Бог, тот Саваоф, какого он представил в раннем, набирающем синеву небе, был стар.
Тряхнув головой, чтоб переменить ход мыслей, всё ещё молодой царь опять почти вплотную подошёл к зеркалу и оттянул нижнее веко, там оказалось всё в порядке; ячмень, обещанный лейб-медиком, не состоялся. Затвердение прошло, красная сеточка жилок была чиста. Здоровая кровь победила...
Но мысль о Боге, облаках, зимнем холоде, особом там, в запредельности, всё ещё не уходила. И вдруг перекинулась: он подумал о своих друзьях по четырнадцатому декабря, как он называл этих молодых и не очень молодых мерзавцев. Возмутителей, мятежников, вздумавших пролить кровь. Царскую кровь... Рассчитываясь с ними, он сумел обойтись без крови, чем гордился наедине с самим собой. Был особый смысл в том, что действовали удавки, верёвки, шнурки, спущенные с наскоро построенной виселицы на кронверке Петропавловской крепости. Верёвки оборвались, трое приговорённых сидели, ждали, пока принесут новые. Как ему передавали, посмеивались: во всём государстве на нашлось крепких — повесить свободу без хлопот. А почему не нашлось? Вор на воре сидит, вором погоняет — это тоже они говорили, если верить доброхотам-переносчикам.
Теперь он вспоминал повешенных всё реже, но в это ясное, совсем для другого предназначенное утро он снова увидел их лица, заплесневевшие, подернутые зелёным не то от сырости каземата, не то от страха. Их глаза неприятно ярко горели на обмерших лицах, упирались в него, силясь что-то понять. Что им надо было понять? Своё будущее? Будущее России? Его самого, игравшего с ними, с арестованными, в искренность?
Самому себе не стоило признаваться, что то была игра, притворство обдуманное, умелое, неизвестно как на него сошедшее...
Отойдя от зеркала в противоположный угол большой комнаты, император вдруг понял, что утро в один миг оказалось безнадёжно испорченным. От печей пахло кисло — угаром — так ему хотелось думать.
Он переступил с ноги на ногу, проверяя, действительно ли удобно будет в новых и по новой моде несколько суженных сапогах с очень высокими голенищами. Было удобно.
Но больше удобства не ощущалось ни в чём.
Через несколько минут с докладом должен был явиться Бенкендорф Александр Христофорович, человек успокаивающий. В Александре Христофоровиче заключалась особенная, проверенная четырнадцатым декабря надёжность.
Четырнадцатого декабря многие старались: момент такой. Подвернись на глаза, распорядись правильно, и — навек отмечен. С Бенкендорфом было другое.
В присутствии Бенкендорфа царь был, как никогда, самим собой. На недолгое время расслаблялся. Даже в семье, в частной своей жизни мужа, отца, любовника он соблюдал осанку. А главное, то выражение лица, какое может разрешить себе герой, сходя к милым сердцу, но малым мира сего. Ко всем остальным, на кого не возложено это огромное и единственное бремя — империя.
...Бенкендорф вошёл в кабинет лёгким, молодцеватым шагом, однако было видно, чего это ему стоило. Подглазья, как часто бывало в последнее время, налились тёмным, нависли, оттягивая нижние веки. Увы, силы Александра Христофоровича были давно истощены и отнюдь не только на служебном поприще. Он был обычного здоровья, но вот оно подорвалось. Жалея Александра Христофоровича, император всё же не без удовольствия отметил собственную, в каждой жилке играющую свежесть.
Дождавшись кивка и присаживаясь на стул, тот самый, раз и навсегда только им занимаемый, слегка наискосок, как бы под рукой, но не напротив, шеф жандармов, личный друг и усердный работник, раскрыл папку.
Сама эта решительность — с моста в воду, как он любил говорить, — подчёркивала, что неприятное на сегодняшний день тоже имеется. Впрочем, как и приятное...
Было письмо оттуда. Были прошения родственников, все эти: припадаю к стопам, гибельные увлечения молодости, полагаясь единственно на великодушное сердце его императорского величества, ежечасно обращая молитвы к Богу. Привычный набор, слушать который не следовало. Сам с собой император когда-то постановил: никого и ни под каким видом! И уж во всяком случае, из тех, кто обсуждал, что делать дальше с ним, как расправиться — судом ли, единым ли выстрелом. Постановил и небольшие исключения делал неохотно, для «замешанных», но не заваривших преступную кашу. А когда всё-таки облегчал чью-то участь, например, ссылкой на Кавказ, сам собой был недоволен.
Николай сидел, заложив ногу за ногу, нетерпеливо помахивая носком; пропустил первые минуты доклада и теперь, вернувшись мыслью, посмотрел на Александра Христофоровича вопросительно и с улыбкой. Вслед за прошением и, как оказалось, перехваченным, не ему адресованным письмом оттуда шли всякие мелочи. Шеф жандармов щадил своего государя.
Среди мелочей было и письмо Пушкина.
Бенкендорф, читая, держал голубоватый твёрдый листок на отлёте. Царь слушал внимательно, словно Бог знает о каком важном деле шла речь.
Письмо, обращённое к шефу жандармов, писано было по-французски. «...Я женюсь на мадемуазель Гончаровой, которую вы, вероятно, видели в Москве, — читал Бенкендорф. — Я получил её согласие и согласие её матери; два возражения были мне высказаны при этом: моё имущественное состояние и моё положение относительно правительства...»
Дочитав до этих слов, шеф жандармов оторвался от листка, глянул на царя. Лицо Николая Павловича оставалось недвижным и как бы безо всякого выражения. Царь демонстрировал свою полную непредвзятость, готовность действовать не по движению сердца, а единственно в согласии с требованиями справедливости. Движение сердца в данном случае могло ввести его в гнев и раздражительность ненужную.
«...Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно, благодаря его величеству, который дал мне возможность достойно жить своим трудом. Относительно же моего положения я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно. Я исключён из службы в 1824 году, и это клеймо на мне осталось...»
Тут, и не поднимая глаз, Бенкендорф почувствовал, что царь переменил позу, ощутив какое-то неудобство в прежней, любимой.
Следующие строки, судя по этому хорошо понятному сигналу, следовало пропустить или, по крайней мере, пройтись по ним скороговоркой. Строки эти говорили о том, что, вопреки доброму желанию, Пушкин отказывается служить, ибо подчиняться не может...
Бенкендорф набрал воздух в свою хорошим портным выпяченную грудь и затем выпустил его достаточно громко, однако почтительно, государь должен был понять: он разделяет. Да, да, все тревоги, все неудовольствия, вызванные этими порхающими, этими неосновательными, этими дорожащими своей частной жизнью, готовыми — в философию, в поэзию, в чужие страны, только не в службу, он — разделяет.