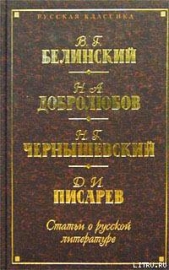«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
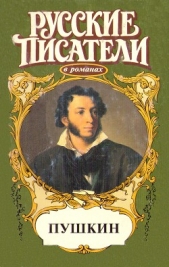
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Простите великодушно, я человек графа Строганова, а послан узнать: не случилось события, нет?
Женщина повела головой отрицательно, а хозяин поклонился и захлопнул дверь с такой силой, что резкий звук долго ещё гулял по улице, отталкиваясь от соседних домов и умирая вдали...
Надо было понимать, события не случилось. В этой лавке, по крайней мере.
Но прежде чем помчаться дальше, Иван Семёнович через мокрый скользкий снег, тут же расседавшийся лужами, с поклоном проводил молодую даму до саней. И ещё раз удивился её ласковой красоте, одиночеству, а главное, решимости.
До лавки Смирдина было недалеко, но, сев в сани, он велел ехать медленно, совсем медленно.
Иван Семёнович был человек простой, вполне дюжинный, однако стихи любил. И многие пушкинские знал наизусть. Случившаяся встреча настроила его на особый лад. Думая о себе, о судьбе своей довольно благополучной, но уж куда как не праздничной, Иван Семёнович почему-то почувствовал жалость к женщине, так быстро-молодо севшей в сани, без спутника, льдистой ночью, рвавшей концы плохонькой шали.
И вдруг сообразил, кто эта женщина. Это была та, о которой Пушкин написал:
По-божески, ради таких строк стоило рискнуть приехать в темноте, в ненастье к Лисенкову. Прочитав сии строчки в «Литературной газете» ещё весной, Иван Семёнович всё думал: о ком они? И вдруг встретил самоё...
Убеждённость в правильности отгадки его была так велика, что по слабости, вполне, впрочем, извинительной, уже представлялись изумлённые лица конторских, которых он удостоит рассказом. Возможно, и самому графу интересно было бы...
Подумав о графе Григории Александровиче Строганове, Иван Семёнович, однако, хмыкнул как-то странно и замерзшими непослушными губами почти вслух прочёл из того же стихотворения:
...Так ехал строгановский гонец, заглядывая чуть ли не во все зеркальные окна лавок, модные тоже, даже кондитерских: чем чёрт не шутит? Поручения хозяйские надо исполнять досконально. Не это ли толковал он молодым своим подчинённым, подкрепляя для иных довольно жёсткими ударами костяшек пальцев по буйным порослям кудрей.
...Между тем дама, севшая в сани возле книжной лавки, возвращалась домой действительно очень одинокая, очень удручённая. Чувство было такое, будто портрет Булгарина с ядовитой надписью под ним мог это состояние нарушить. А как же? Увидев нечто, чего никто не видел или видели люди другого круга, она обретала неоспоримую силу притяжения. Интерес к ней воскрес бы, вот что...
Дама эта, не знатная и уж вовсе не богатая, была избалована интересом. Вслед ей, бывало, поворачивались самые важные головы на самых гордых шеях: «Она?», «Та самая? Неужели?», «И что он нашёл?». Была и сладость и опасность в этом шёпоте, но спасал характер. В неприкаянности, в нужде её всегда спасал характер. Она была беззаботна, и если уж выпадали мгновения радости, умела запастись впрок надеждой на то, что всё приходит к счастливому концу. Она даже придумала нечто вроде своего собственного символа веры: сначала (и при том сквозь самые горькие слёзы) надо улыбнуться судьбе за так, за то, что жива и часто любима. В ответ же и судьба расщедрится. Однако, вопреки ожиданиям, судьба со своими подарками никак не спешила. Жизнь её была тяжела, одно хорошо — независимость. Но бедность давила настоящая, когда нечем становилось заплатить за квартиру, не на что купить новые башмаки.
Но вернёмся к действию. Прежде чем попасть домой, в плохо топленные свои комнаты, дама, о которой идёт речь, заглянула к друзьям.
В передней, тесной и не слишком светлой, её встретили обычным восклицанием:
— Ну как можно заставлять так волноваться? Ан нет — как?
Особого волнения, впрочем, лицо подруги отнюдь не выражало. А всё как бы радостно вздрагивало от любопытства и любования чужой смелостью. Сама она, по своим же уверениям, совершить подобного не смогла бы ни за какие блага мира.
— Ну? Нет? И не было? Как жаль...
Софья Михайловна помогала гостье стряхнуть шубку, отяжелевшую от талого снега. Слуги, как всегда в этом доме, появлялись на зов в сонной одури и недоумении: что ещё надоть?
Хозяин же, тоже знаменитый, кроме всего прочего, снисходительной ленью, слегка прихворнул и отлёживался на широком диване в кабинете. Очки его радостно блеснули навстречу дамам, но обе они повели своими хорошенькими головками справа налево и ещё раз.
— Нет? Не выгорело, Анна Петровна? Только простуду зря могли схватить, как я, грешный. — И он, кряхтя, принялся нашаривать мягкие туфли, приподниматься с дивана...
— Ну нет, — ворчал он далее, — Фаддею сам чёрт детей колышет, а вы, дуры бабы, понадеялись! Забавно. Впрочем, нет: горько! Впрочем, у меня — хандра.
Он посидел несколько минут, опустив руки и голову, словно раздумывая — не улечься ли снова.
— Хандрливость (он засмеялся странному и труднопроизносимому слову) есть точно свойство моей натуры. Как блудливость — Фаддеевой. Сводничает Фоку, выдаёт нас с головой там, где и комар носа не подточит... А бодливость — Александра свойство, никому не спустит при всём добродушии.
Он засмеялся, вспомнив, как именно Александр не спускает Фаддею, и тут же стал мурлыкать себе под нос:
Анна Петровна Керн слушала, наклонив к плечу голову, будто и не эти слова, а что-то дальнее. Дельвиг же продолжал, всё ещё не вставая с дивана:
— Мы их словом, они нас — делом, а дело Булгарина, как известно, кроме всего прочего — доносы Александру Христофоровичу. Донос — потому что конкуренции боится. Да из злобы и зависти. Затейлив, игрив Булгарин — развлекается. А и наскочил на булавку Пушкина, всё равно неизвестно, уймётся ли. Разве что царь прикрикнет...
...Пока что несколько времени назад на него, Антона Антоновича Дельвига, совершенно неприлично кричал Бенкендорф. Кричал, краснея от искусно подогреваемой злости.
Дельвиг смутился тогда и не нашёлся сразу, от первого непривычного и неприличного «ты». Чего раньше не бывало. Забавно!
Лицом ещё умеренно румяный, с этой будто мыльной, отступившей ото лба шевелюрой, вполне приличный господин, Бенкендорф на этот раз был страшен:
— Где? Где, укажи мне, найдётся предмет, какой ты, Пушкин, Вяземский не подвергли осмеянию? Аристократы, чистюльки — славить отечество у них рука не поднимается — горды. Горды? Глумливы и ленивы послужить, да. Всех в Сибирь, кабы моя воля, всех в кучку сбить, чтоб не скучали, почту не обременяли. А? Тебя — первого, газету твою прихлопнуть, не за азарт, за глупость. Азарта с тебя, положим, как с паршивой овцы!
На этих словах Бенкендорф осмотрел Дельвига с головы до ног, что называется обливая презрением. Но барон уже несколько оправился:
— Я только хочу напомнить, что перед вами не холоп и не осуждённый ещё...
— Помолчи, — прервал Бенкендорф голосом человека, у которого очень болит голова. — Помолчи, не бери греха на душу. Не ножом одним убивают, словом — тоже. В любом другом государстве за ваше мальчишество вы жизнью поплатились бы. Из мальчишек, сударь мой, давно выросли. Но всё мальчишествуете! И мальчишек же развращаете брожением умов, даже и в доме своём.