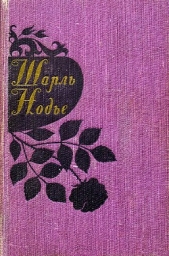Волонтер свободы (сборник)

Волонтер свободы (сборник) читать книгу онлайн
В книгу известного советского писателя входит повесть о просветителе, человеке энциклопедических знаний и интересов, участнике войны за независимость США Федоре Каржавине «Волонтер свободы» и повести об известных русских флотоводцах А. И. Бутакове и О. Е. Коцебу «На шхуне» и «Вижу берег».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То были даже и не мысли, а как бы тени от облаков. Ванюша Тихов не пугал их, не мешал им, и Шевченко по душе было помогать "хлопчику" кухарничать.
— Тарасий! — позвал Ксенофонт Егорович.
Шевченко шагнул к нему, отирая руки тряпкой. Штурман схватил его за локоть и зашептал сбивчиво, комкая фразы, зашептал про то, как Бутаков совершил "обряд крещения".
Никогда еще Шевченко не видел Ксенофонта в столь сильном возбуждении. Тихий, задумчивый, а вон как распалился…
Он испытывал к Поспелову, боцманскому сыну, труженику, симпатию искреннюю, очень теплую и про себя жалел его, по-братски жалел, будучи уверен, что Ксенофонт из тех, кому суждено окунуть сирую душу в штоф зелена вина да и спиться с круга. Порой сходились они: беседы их были незатейливы, не трогали предметов важных, но они предавались беседе с сердечной доверительностью, и она была им куда нужнее всяческих мудреных рассуждений. Теперь же, слушая лихорадочный шепот Ксенофонта, Шевченко и понимал причину его ярости и дивился этой ярости.
— Нет, ты представь, представь… — В уголках сухих губ прилипли табачные крошки. — Зачем так-то, а? Зачем? Ведь он инструкцию смел нарушить? Ведь смел? А? — Светлые, в красноватых жилках глаза налились слезами. — Что же он так-то? Зачем? Ему предписаний таких не было… Понимаешь? Не было ведь, чтобы так именовать. А он… Что же это, а?
Штурман умолк, как захлебнулся, выхватил из-за борта сюртука книгу, сунул ее Шевченко.
— Вот, прочти, страницу одну прочти. Я заложил, прочти, Тарасий. — Круто повернулся и оставил Шевченко. Тот растерянно посмотрел ему вслед.
Книга оказалась сочинением Головнина.
По обыкновению моряков, уходящих в дальнее плавание, лейтенант припас с полдюжины вот таких обстоятельных "Путешествий". Некоторые из них Шевченко читал, хотя, признаться, и перемахивал страницы, пестревшие названиями парусов и стеньг, всей той англо-голландской смесью, которая прочно внедрилась в язык русских моряков со времен Петра. Сочинения Головнина Тарас Григорьевич прочитал с интересом неподдельным, радуясь слогу, как радовался другой ссыльный — поэт-декабрист Кюхельбекер… Однако какое касательство имел знаменитый в свое время капитан флота к нынешнему гневу Ксенофонта Егоровича, Шевченко не понимал, и на указанную Поспеловым страницу взглянул он с рассеянным недоумением. Взглянул и прочел:
"Если бы нынешнему мореплавателю удалось сделать такие открытия, какие сделал Беринг и Чириков, то не токмо все мысы, острова и заливы американские получили бы фамилии князей и графов, но и даже по голым каменьям рассадил бы он всех министров и всю знать; и комплименты свои обнародовал бы всему свету… Беринг же, напротив того, открыв прекраснейшую гавань, назвал ее по имени своих судов: Петра и Павла; весьма важный мыс в Америке назвал мысом Св. Илии, по имени святого, коего в день открытия праздновали; купу довольно больших островов, кои ныне непременно получили бы имя какого-нибудь славного полководца или министра, назвал он Шумагина островами, потому что похоронил на них умершего у него матроса сего имени".
Так вот оно что! Молодчина старик Головнин! Уж этот не стал бы марать карту именами царя и царских отпрысков Эх, Алексей Иванович, Алексей Иванович, грустно, брат. Не на все, видать, хватает у тебя пороху.
Наступает час, когда продолжение всякого длительного плавания кажется почти немыслимым.
Не бог весть что за перл был Кос-Арал, где экспедиции предстояло зимовать, но рисовался он землей обетованной, и в двадцать второй день сентября 1848 года на шхуне воцарилось едва сдерживаемое ликование. Плавание подходило к концу.
Как все молодое и одинокое, Арал бурлил. Он был молод, ибо родился совсем недавно — в первом тысячелетии до нашей эры. Он был одинок, ибо не сообщался с другими морями.
Уже вечерело, когда форштевень "Константина" мягко и властно вклинился в плотные буроватые воды сыр-дарьинского устья.
На шхуне пальнули из пушки и закричали "ура".
В кромешной тьме — она пахла расталой землею, — в той тьме, что бывает на дорогах при первых, дружно взявшихся оттепелях, влеклась пароконная телега, и ее медлительное движение сопровождалось квелым позвякиванием колокольцев, храпом приморившихся лошадей да тяжелыми перебивчивыми шлепками комьев грязи.
Еще вчера снег лежал. Но в марте на санный путь надежда плоха. Днем припекло, капель рассыпалась цыганским бубном, тракт распустило, хоть караул кричи.
Правда, унтер-офицеру корпуса жандармов в Муроме без задержки сменили сани на телегу. Однако и на телеге никак более шести-семи верст в час не получалось, вот и не поспели засветло в губернский город Владимир.
Ямщик уж с этим смирился. Он дремал, посапывая в бороду, а когда телега ухала в колдобину, вздрагивал и ругался матерно. Ехал он так, как ездят мужики-обозники — подвернув ноги, опираясь задом на пятки, сунув руки в рукава нагольного тулупчика.
Жандармский унтер лежал, вытянувшись во весь свой немалый рост, ткнувшись лицом в охапку сена. Хоть и ни к черту дорога, но унтер доволен. Доставил, как приказано, арестанта в Вятку, а возращаясь, столковался в Нижнем с каким-то человеком и повез его на казенных в Москву. Человек не поймешь какого чина-звания, да червонец-то не валяется, а жалованьем только дурак жив.
Колокольцы звякали. С колес, шурша и пришлепывая, опадали комья грязи и опять наворачивались на ободья толстым вязким слоем. Черным-черна была дорога, и черный костлявый лес напирал на нее, а то вдруг отступал, и тогда казалось, что тьма тоже пятится.
Попутчик жандармского унтера, свесив ноги, обутые в теплые бархатные сапоги, курил, поглядывая на затаившийся и поверху будто встрепанный лес. Из этих вот лесов выныривали некогда удальцы-разбойнички, молотили "по дворянским-то головушкам да по спинушкам купеческим".
Когда выбираешься из долгого заточенья, с оторопью и болью осознаешь громаду утраченных лет. И на какую бы пору ни пришлись годы неволи, на молодость ли, на зрелость или старость, думаешь, что именно они, именно эти годы похоронили самую сочную пору твоей жизни.
Забрехали деревенские псы. Лошади, чуя жилье, норовили к воротам свернуть, но возница огрел их кнутом, и бедняги, всхрапнув, потащились смиренно дальше.
Да, неволя отошла в прошлое. А впереди? Кто ждет? Что ждет? Первый визит — в Академию художеств. Потом в Эрмитаж. И в волшебную оперу. И непременно, непременно услышать музыку Шопена… Поселиться на Васильевском острове, и чтоб ни дня попусту. Ни единого дня. Чудотворен резец гравера! Кто знал бы, кроме богачей, полотна великих мастеров, когда бы не было гравюр? Ах, как славно будет в Питере, на Васильевскком острове, в обители старых друзяков-живописцев. И надо думать, невольничью музу ждет благосклонный прием.
Все это так, все это так… Но есть и другое, есть нечто, теснит оно душу. Толкуют: со смертью императора Николая изменится многое. Дай-то боже. Герцен звал царя Неудобозабываемым Тормозом. Лучше не скажешь! Тормоз околел, его сволокли в Петропавловский собор. Но, братцы мои, други милые, оглянитесь, зорче оглянитесь: сколь их на Руси, других-то тормозов, а? И вот костенит душу вопрос: не замаячит ли сызнова огромный Тормоз? Не замаячит ли? Вот он вопрос, никуда не деться…
Заморившиеся лошади добрались до губернского города Владимира в третьем часу ночи. Грязное крыльцо станции освещал фонарь. Из конюшен хорошо, густо несло навозом, прелой соломой.
Шевченко слез с телеги и пошел на станцию. Он отворил дверь, его обдало теплом, устоявшимся запахом чайных опивков и свечного нагара.
На станции давно уж дожидались подставы пассажиры московского дилижанса. Добросовестно опорожнив большой самовар, они осовели и клевали носами, а которые уже и позасыпали, запрокинув головы, скособочившись, как бы надвое переломившись, словом, в тех немыс лимых позах, в каких спят на станциях православные. Шевченко ухмыльнулся: в самый раз были бы тут карандаш Агина и кисть Федотова… Под усами Тараса Григорьевича улыбка еще не сгасла, когда он словно бы наткнулся на пристальный взгляд какого-то проезжего господина в расстегнутом сюртуке с погонами капитана первого ранга.