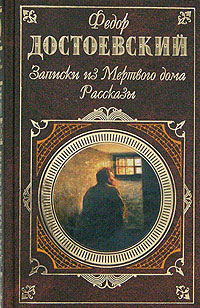Игра. Достоевский
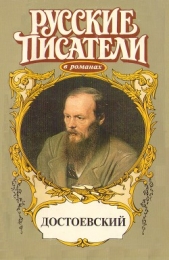
Игра. Достоевский читать книгу онлайн
Роман В. Есенкова повествует о том периоде жизни Ф. М. Достоевского, когда писатель с молодой женой, скрываясь от кредиторов, был вынужден жить за границей (лето—осень 1867г.). Постоянная забота о деньгах не останавливает работу творческой мысли писателя.
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да уж, тут не сомнение, а прямо неверие, сплошной нигилизм, один только разум, холодный рассудок, математика, логика, расчёт и расчёт, а логикой всё ли поймёшь, ещё надо чуткое сердце иметь, тогда и поверишь, что это он, совсем, совсем пропал человек, каким был и во что превратился, почти уже не похож на себя, кацавеечка, седина, что-то мямлит о покорности обстоятельствам, и он подтвердил иронически, кланяясь и разводя руками по сторонам:
— Ну да, ну да, необходимость, давление времени, дважды два, математика, всё должно быть по таким-то и по таким-то неумолимым законам!
И вдруг выкрикнул ожесточённо и с болью:
— Да мне-то что делать, что делать мне вот, Фёдору Достоевскому?
Тургенев вздрогнул, быстро вскинул очки, словно ожидая чего-то, и самым искренним голосом посоветовал:
— Да то же, Фёдор Михайлыч, что всем: надо ждать, пока переменится время, хоть нас с вами в ту пору, быть может, уже и не станет.
Но он негодующе возражал:
— Когда-то оно ещё переменится, да мне до этого дела нет! А вот сейчас-то, сейчас что мне делать, если я не хочу ему покоряться? Кругом, сами же вы говорите, аферисты и дяди растут как грибы, невежество дремучее, пьянство, разврат, так мне, что же, в аферисты тоже податься или в кабак, раз уж всё это и давление времени, и разная прочая математика?
Тургенев мирно ответил, поглаживая больное колено:
— Я этого не говорил...
Он горячо, задыхавшимся голосом подхватил:
— Вы не говорили, не говорили, утешьтесь, да это же всё равно! Если только давление времени, значит, и воли нет, это Белинский ещё понимал, и тогда вы снова напишете «Дым», а будет давление времени, так ещё хуже «Дыма» напишете и станете все эти бумажки перебирать, о чём там «Голос» хрипит [41] или что там брякнула «Весть»!
Тургенев медленно покачал большой головой и ответил без всякого раздражения, тем спокойно-отчаянным тоном, когда всё безнадёжно и всё окончательно решено:
— С этим покончено, может быть, навсегда. Вот видите ли, Фёдор Михайлыч, сочинять я не мог никогда. Чтобы у меня хоть что-нибудь вышло, мне надобно постоянно возиться с людьми, брать их живьём без прикрас. Мне необходимо не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие подробности быта, вот, к примеру, как именно здесь на водах русские генералы гуляют, и всё в этом роде. Так я всегда и писал, и всё, что у меня есть порядочного, дано жизнью, русской жизнью, заметьте, а вовсе не придумано мной, вплоть до генералов, которые на водах гуляют, это русские, не британские генералы, ручаюсь. Настоящего воображения у меня нет. Как же мне здесь дальше писать?
Вот-вот, плоды нигилизма, без веры, с одной математикой — ещё туда ли придёшь, но он всё равно поверить не мог, чтобы у Тургенева это было серьёзно, и в уме его завертелась догадка, что и сам-то Тургенев, должно быть, верил только наполовину в своё отречение от искусства и немного, может быть бессознательно, поигрывал в это пресловутое отречение наедине сам с собой, тайно наслаждаясь этим болезненным расставанием с самым любимым и дорогим, да ведь это и было уже, как-то пропел в этом роде, мол, довольно, довольно, устал и даже, мол, незачем жить, а потом-таки, глядь, вышел новый роман, знаем мы вас, без лицемерия-то, верно, нельзя, хоть капельку лицемерия, да подпустить, для остроты ощущения, но это сейчас было не важно, бог с ним, об этом потом, и он отчаянно звал:
— Возвращайтесь к почве своей, возвращайтесь!
Тургенев как-то принуждённо, словно бы нехотя улыбнулся:
— Но, помилуйте, Фёдор Михайлыч, почва почвой, а и вы-то, кажется, не на почве, а здесь.
Да, как же ты думал, ответ за всё надо держать, за каждый поступок, или молчи, не зови, но зачем же молчать и не звать, если можно ответить от чистого сердца, даже и всю подноготную, если бы о ней зашла речь, и он горячо отозвался:
— Но ведь это не то, ведь это же совершенно другое, поймите, мне там грозила долговая тюрьма, и я вынужден был, вынужден был уехать, сказать правду, даже бежать, засадили бы непременно.
И усмехнулся:
— Только думаю вот, что не многое переменилось, а я только переменил одну тюрьму на другую.
Тургенев не без иронии вставил:
— Ну согласитесь, что эта полегче.
Он задохнулся, закашлял и еле мог говорить:
— Ну это ещё как посмотреть! Там тюрьма была бы для тела, а эта тюрьма для души, и. здесь теряешь даже возможность писать, не имея под руками всегдашнего материала, то есть нашей действительности, дающей мысли, вот как теряете вы, вы же сами только что честно признали, а там-то, даже в тюрьме, я имел бы неслыханный материал, ведь мне каторга дала материалу на книгу, а там я бы на пять набрал, честное слово, если не больше, какое сравнение!
Тургенев засмеялся мягко, негромко и с любопытством спросил:
— А пошли бы, вот в тюрьму-то, ради материала, пошли бы?
Он тоже вдруг засмеялся и искренно подтвердил:
— Разумеется, пошёл бы, что за вопрос, и даже собирался уже, но вот только то, что ведь там писать ещё больше нельзя, там даже читать невозможно, а у меня разъединственный это доход, то есть нет совершенно другого, решительно ничего, и выкупиться уже бы было нельзя, и я бы там весь свой век просидел, кредиторами Бог наградил, живодёры проклятые, за пятьсот рублей один мог засадить, вот и сидел бы, даже я со всем своим материалом.
Тургенев удовлетворённо кивнул:
— Ну вот видите сами, так вот и со мной случилось, что я хотел не хотел, а вот поселился теперь за границей.
Вот уж это и нет, он даже не понимал, как же можно сравнивать их положение. Он во всём этом только одно понимал хорошо, что перед ним сидел, киснул и каялся умный человек и с этим умным человеком творилось что-то нелепое, фантастическое, хотя, вероятно, тоже удивительно русское. В этом он тоже не в состоянии был понять ничего, то есть он отчётливо понимал, что, скорее всего, и даже наверняка, единственной реальной причиной всей этой нелепейшей неурядицы была всё-таки слабая воля, недаром же Иван Александрович так выразительно верно этот русский феномен описал, но он именно и представить не мог, как это можно иметь слабую волю и не справиться с самим собой самому, да ещё имея такое огромное дарование, которого не мог же он в Тургеневе, и даже несмотря ни на что, отрицать.
Он пристально посмотрел на того, словно бы застывшего в кресле, и переспросил, не скрывая недоумения:
— Как это «случилось», что вы здесь поселились? Да разве не в вашей воле переселиться обратно?
Лицо Тургенева становилось всё беспомощней и суровей, и глубокие морщины собрались вокруг провалившихся глаз, но голос оставался спокойным на диво, звуча без запинок и колебаний, словно все его чувства не отражались в холодной продуманности суждений:
— Именно, «случилось», Фёдор Михайлыч, иного слова я подобрать не могу. Вы вот женились опять, у вас теперь есть свой угол заветный, где вас вполне понимают или, по крайней мере, могут стараться понять, вам сочувствуют в этом углу и, верно, разделяют все ваши главные интересы, в вашем возрасте иначе не женятся, страсти не те, а упрячут, не дай Бог, в тюрьму, так не бросят, ведь так? Стало быть, вы можете укрыться в этом тёплом углу от жизненной непогоды, можете отдохнуть, набраться в нём сил для новой работы и для новой борьбы, вы ведь борец. А куда деться мне? Где мне преклонить свою старую голову? Жизнь моя так сложилась, что своего гнезда я свить не сумел, вот и пришлось довольствоваться чужим. У меня только и есть что вот эти друзья, которых я люблю и которыми, я знаю, любим. Ну вот и держусь я за них, чтобы тоже на случай можно бы было хоть где-то укрыться, хоть оперетки кропать, несмотря даже на то, что для них и не всё интересно и дорого, что близко и дорого для меня. Что им, к примеру, Россия, которую я так странно и так бесконечно люблю? И потому даже с ними бывают у меня целые периоды тёмного одиночества и духовного отчуждения. Что же было бы мне без них? И вот я буду жить почти безвыездно за границей, стало быть, прости-прощай изучение русских людей, в новом их облике, как там они теперь думают, о чём мечтают и говорят, у всякой эпохи свой особый язык и чувства свои. Вот по этой причине я и не думаю, чтобы у меня написалось ещё что-нибудь. Верно, на этом поставить надобно крест.