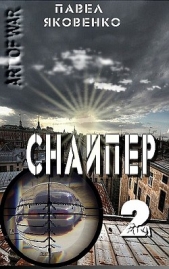Харбинские мотыльки
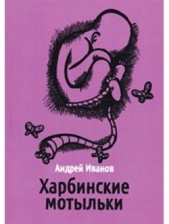
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Все-таки работали. — Стропилин покосился на стол: чернила поблескивали, тетрадь раскрыта — строки свежие…
— Это чепуха, — сказал Ребров, отодвигая подальше к окошку тетрадь, зажигая еще две свечи. — Для себя.
— Все мы это для себя… Извините, я хотел вас одну вещь спросить, — начал Евгений Петрович, — только не знаю, как начать…
— Да начните как-нибудь, — сказал Ребров, протягивая бокал вина. У Стропилина было напряженное лицо, он улыбался, но улыбка эта была натянутой, и ногой потряхивал.
— Благодарю, — пригубил. — Хм, крепкое!
— Да, хуторское.
— Тем лучше! Тем проще будет разогнаться с этой историей.
— Да что за история, Евгений Петрович?
— Попробую начать с того, что уже несколько лет я пытаюсь… Хм… Нет, не оттуда зашел… Мы недалеко от порта жили, как вы помните, — Ребров кивнул, — а там велись судостроительные работы. Шумно бывало, наш малыш часто просыпался, сильно кричал… Вот, особенно днем, если начинался скрежет или грохот в порту, он так кричал, что сердце сжималось. Я тогда сильно беспокоился, не может ли это отразиться на его душевном спокойствии? Ведь такие вещи могут сильно потревожить человека. Любого. Не только младенца.
Писатель взглянул на Реброва — Борис пожал плечами.
— А как вам у нас? — спросил художник. — Здесь вроде тихо.
— Тихо, спокойно.
— По ночам разве что вагоны ухают.
— Пустяки. А какие у вас открытки замечательные! Что это?
— Это Юрьев, ничего особенного. А у меня бессонница, все слышу, бой часов фрау Метцер считаю — сколько ударов до утра осталось… а вагоны бухают…
— Вагоны, часы — это музыка! Такое не сведет с ума.
— Нет, конечно, такое — нет.
— Вот-вот. Мир сводит людей с ума. Мир безумен, — тихо сказал Стропилин. Ребров насторожился, предчувствуя, что сейчас польется. — Вернее, мир населен безумцами. Оглядитесь, что творится. Мне давеча дохлую крысу подбросили.
— Как! — такого Борис никак не ожидал. — У нас?
— Да-да, у нас, в этом самом доме!
— Но как?
— Хотел бы я знать! Сижу, пишу. Вдруг слышу смех какой-то с улицы. В окно выглянул — никого. Опять пишу. Вдруг стук по стеклу и убежало. Я посмотрел в окно — пусто. Пишу, снова стук, стук. Вижу — повисло, болтается, стучит. Окно распахнул — крыса.
— Как?
— На веревке.
— С чердака?
— Наверное. Я не разглядывал. Дернул, сорвал, выбросил. Представляете, как я был взбешен! А если б жена моя нашла, что бы она сказала? Или малютка, что было бы, если бы он увидел… Это же… это…
— Так вы затем и выходили в коридор? На чердаке смотрели? Я не первый день слышу, как по чердаку ходят.
— Нет, не смотрел, — Стропилин покачал головой, и Борис заметил, что в глазах его было что-то детское. Обида, понял он. Как ребенок, которого наказали. — Как вы думаете, мог это Федоров сделать?
— Да вы что! Федоров — в последнюю очередь подумал бы на него! Нет, — отмахнулся Ребров, — он такой нерешительный человек. Да у него и со спиной что-то…
— С ногой, он был ранен в ногу.
— Вот видите, он бы не полез на чердак, у нас там лестница, видели какая? Не осилит.
— Да, вы правы. Тогда, наверное, это были ученики.
— Какие ученики?
— Мои ученики.
— Почему?
— Досаждали.
— Так вам и раньше приходилось сталкиваться с подобным?
— Нет. С подобным? Нет, что вы! Если бы я вообще слыхал когда-нибудь, что подобное бывает, заведено — шутка или розыгрыш, un true ridicule et bien inoffensif [66] — я бы первым посмеялся! Того гляди, привык бы. К чему не привыкаешь! Но там, где я жил, такое было невозможно, там такой дом был… У Егорова… Там бы не осмелились.
— Так с чего вы взяли, что ваши ученики знают, где вы теперь живете? Вы ведь в школу больше не ходите.
— Могли на улице выследить.
— Ну, не знаю, странно это как-то. Кому надо? Что это за ученики такие? Зачем следить?
— Вот я вам и говорю — безумие, безумие кругом, начинаешь всех подозревать. Я с этим и пришел. Хотел это все написать, но так меня сильно взбудоражило, что решил: пойду и с вами поговорю, чтоб мы вместе с вами здраво рассудили. Потому что написать все что угодно можно, пока один сидишь и пишешь, знаете — крыса станет слоном, а облако — Везувием, я решил пойти и ваше мнение услышать.
— Это потому что я под рукой, тут рядом? Могли бы поговорить с кем-нибудь более компетентным. С господином Ристимяги, например. Он куда лучше знает местное население и нравы. Может, он вам сказал бы верней — случаются такие игры или нет.
— Я с ним поговорю. Спасибо за совет.
Выпили молча. Борис еще налил. Стропилин смотрел, как он наливает, смотрел и вдруг сказал:
— А я на вас сперва подумал.
— На меня?
— Потому и пришел. Понимаю, что не вы, а перестать думать на вас не могу. Как увидел вас на лестнице, так сразу и подумал, что вы это сделали.
— Уверяю вас, что это не я. Зачем мне вам крысу подсовывать?
— А зачем ее вообще подсовывать кому бы то ни было? Сами рассудите, зачем? И ладно бы я вам подсунул…
— Вы? Мне?
— Да. Вот если б я вам подсунул крысу, это было бы логично, — с довольным видом сказал писатель.
— С какой стати вам мне крысу подсовывать?
— От зависти.
— От какой? Чему завидовать?
— Я понимаю, что завидовать совсем нечему, но все равно, такую крысу можно было бы подсунуть. Если вообще кому-то в нашем доме подсовывать крысу, так мне — вам, а не наоборот, потому как вы теперь знаменитый художник, в газетах про вас пишут. Нет, я понимаю, что это глупо, но хотя бы за то, что мой журнал Федоров погубил, а вы у него пишете, я мог бы вам крысу подсунуть, но не подсунул! Или возьмем наш фотографический очерк, который мы готовили для журнала «Эхо», жаль — немножко не успели. Кстати, слыхали, Бахов-то — в Совдепию вернулся! Вот так сюрприз!
Борис поморщился; Евгений Петрович энергично поправил воротничок и продолжал:
— Все-таки вы — молодец, протолкнули-таки фотографический очерк, правда, напечатали у Федорова. Нет, я претензий не имею, вы написали свое, к тем же фотографиям, но идея-то была наша, даже — моя, а получилось, что я как бы побоку. Не потому, что я так думаю, нет, поймите правильно, я объясняю, как могло бы показаться. Если представить причину. Вы пишете, вас печатают. Я пишу, меня никто не печатает, нуждаемся, и зависть оттого могла бы… именно могла бы возникнуть…
— Но это…
— Я всего лишь попытался рассуждать, затем и пришел, чтобы рассудить и разобраться: зачем кому-то в этом доме крысу под окно подсовывать? Почему мне? И если мне, то почему бы не вы?
— Да глупости, Евгений Петрович!
— Вот именно: глупость! Еще какая глупость! Но разве рассуждение это глупее, чем крыса у меня за окном? Она, прежде всего, и есть — глупость! А после такой глупости любое рассуждение становится наименьшей глупостью, чем эта дохлая тварь на веревке. Откуда-то взялась она у меня за окном. После того, как такое перед носом увидишь, все что угодно на кого угодно можешь подумать, разве нет?
— Да, вы правы.
— Вот вы говорите, шаги слышали на чердаке. Какого черта, спрашивается?
— Вот я и хотел бы знать.
— Я-то как хотел бы! А представьте, вам крысу на веревочке к окошку свесили…
— Вы с фрау Метцер об этом говорили?
— Не совсем… Не в подробностях… Сказал, что кто-то шалит, ботинки на веревке подвешивает, но не к моему окошку, а вообще… Бегает кто-то… по чердаку, вы ведь подтвердите, правда? — Ребров кивал.
— А про крысу я ей ничего не говорил, и вы не говорите! — Кунстник помотал головой. — К тому же теперь это такое глубоко личное дело, — говорил Стропилин, уйдя в себя. — Потому как выходка эта мою теорию о мировом сумасшествии подтверждает. Я об этом, можно сказать, последние десять лет неустанно думаю. Даже решил эксперимент провести.
— Эксперимент? Какой эксперимент?
— Я думал, вы поняли. Ну, да ладно. Это буквально в двух словах. Я пытаюсь оградить моего сына от всей этой сволочи. Я не допущу, чтоб мир просочился в его душу. Хотя бы первые пятнадцать лет… не дать миру запустить в него свои грязные лапы. Ни школы, ни гимназии, никаких друзей! Я знаю это отребье, я знаю, что такое школа, не понаслышке, вон они — школьники — из рогаток стекла бьют, из трубочек в тебя бумажками плюют, в стул что-нибудь ввинчивают или наоборот — ослабят болты и подсунут тебе, а ты — хрясь и, как дурак, ноги кверху! Нет уж! Я моего ребенка не отдам в эту мясорубку. Учителя тоже хороши, набивают учеников, как чучело, черт знает чем, потом они ходят бездушные, слепыми глазами на мир смотрят, а что видят? Я сам могу его образовать. Жена занимается языками и математикой, я — история, география, литература и так далее… Хотя бы первые годы выдержать в чистоте, а потом он нарастит панцирь. Первые годы самые важные, в человеке формируется связь с миром и людьми. Мир безумен. Люди растлены. В первые же годы детей растлевают их собственные родители, няньки, репетиторы, дурацкие книжечки, танцы, спектакли, всякие необдуманно подаренные штучки, рассказанные не к месту сказки, — все это въедается, как плесень. Даже самые простые вещи несут отпечаток грязных помыслов. Теперь, когда я не работаю в школе, мои нервы восстановились, у нас все хорошо, это положительно сказывается на всех. Знаете, как прежде было? Срывался… Такая обстановка… Кровь в голову ударит, и все — срыв, крик, слезы… А теперь, когда я могу спать дольше и думать стройнее, без перерывов и дерганья, у нас установились идеальные условия. Мир! Покой! Никакой суеты! Теперь я могу контролировать ход эксперимента двадцать четыре часа в сутки. Правда, держимся довольно замкнуто, избегаем общения с людьми.