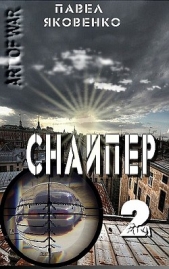Харбинские мотыльки
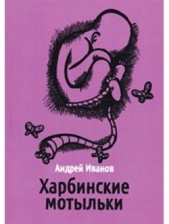
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Даже если люди в России что-то и поймут, это ничего не изменит. Для этого надо знать Россию. Там если и поняли что-то, это еще не значит, что начнут какое-то дело делать. Да и давно пора бы понять, с 19-го года этот кошмар все-таки длится, я прекрасно помню, какой Петроград зимой в 19-м был. Что это за призрак был! Не город, а покойник!
— Да наверняка все всё поняли, — поддержал кто-то, и Сундуков скукожился.
— Русский народ, он как русская баба, все простит, все стерпит…
— Да, да, он не станет никого вешать на фонарях… даже комиссаров…
— Вы что, совсем ничего не понимаете? — зло вскричал Сундуков.
— Какая баба?! Мы говорим о народной массе! Во Франции народная масса Бастилию разнесла к чертовой матери! Перво-наперво она должна осознать свою миссию…
— Во Франции… — усмехнулся Колегаев.
— Тем более если осознает свою миссию, — вставил Ребров. — Хотя я сомневаюсь в том, что есть какая-то миссия.
Сундуков обернулся к Реброву, брезгливо поморщился и язвительно сказал:
— Скажите, а вы часом сюда не поесть пришли?
Иван хмыкнул. Ребров поднял подбородок и, не говоря ни слова, пошел к дверям. Колегаев, подкашливая, за ним. Долго искал шинель. Колегаев основательно застегнул свой бушлат, в карман сунул красную брошюру.
— Покажу своим, — перехватил он взгляд художника, — почитаю на собрании — посмеемся…
На следующий день Борис пошел к Николаю Трофимовичу. Собирались на домашний концерт к соседям Соловьевых. Обедали. Николай Трофимович отметил, что Борис плохо выглядит, — художник соврал, что много работы.
За кофе Николай Трофимович из газеты вычитал, что вчера ночью потерпел крушение крупный коммерческий цеппелин, который, помимо нескольких тонн груза, вез почту. Команда цеппелина совершила удачное приземление на можжевеловые кустарники. Никто не погиб.
по коридору пробежал призрак Танюши
(внучка фрау Метцер)
личность — это отблеск булавочной головки, тогда как на самом деле человек, с которым мы перепутали его Schlemel, это металл, из которого отлита игла.
пошел к Соловьевым вернуть журналы; остановила полиция: двое полицейских посветили в лицо, спросили документы — подозрительно. Пропустили. Геннадий Владимирович сказал, что это с тех пор, как в соседнем доме кто-то был выбран в правительство, поставили на улице патруль. «Надо съезжать», — усмехнулся он. Я побыл только с минуту. Ничего не взял. Больше не приду.
Видел жену Н. Т. - спрятался за афишную тумбу — не хотел с ней говорить. Не знаю, заметила или нет. Думаю, нет. Но сейчас пишу и краснею. Хотя в первую очередь, даже если заметила, должна быть довольна, что я спрятался. Не о чем нам говорить.
очень долго курил, а потом сидел неподвижно у огня, смотрел на пламя, размышляя о единовременности всего живого; мне казалось, что я слышу, как по чердаку кто-то ходит; наверное, хозяйская служка — косая хуторская эстонка — вышел, пошел по коридору, полез по лесенке, посмотрел: никого — послышалось.
чувствую, как тишина сгустилась и не отпускает; готовится картина; вдруг что-то схватывает мое внимание, как те лепестки черемухи на ветру, я откупориваю внутреннее око, жду, жду, а потом — запахнувшись — удерживаю, вынашиваю, ощущаю, как разгорается письмо, гудит, как в печи, возникают слова, как образы на пластинке.
и не обязательно носить с собой аппарат, не обязательно записывать — человек сам по себе — чудесная лаборатория, увидел, значит, присоединился; карандаш нужен не больше, чем спиртовка под чашечкой с ртутью (после кокаина и разврата часть пленки памяти засвечена).
Люди должны жить в страхе. Оттого и ретива пляска под виселицами. Человечество грабит, убивает, т. к. знает наверняка о случайности своего происхождения, бесполезности, кратковременности. Знает, но прикрывается Библией, философией, наукой. Но знает наверняка: нет у людей другого будущего, гармония в этом мире невозможна, человек не изменится никогда, потому что задуман так: убивать и грабить. Борьба и выживание — вот закон эволюции. Племена будут вести войны, чтобы победил сильнейший. Таково развитие. Мир на планете противоречит самой природе. Все это в нашей крови. Другим человек быть не может. Другого закона не дано.
Вот взять бы Леву, да отрезать ему палец и съесть у него на глазах. От ужаса он никому ничего не скажет, он просто сядет в поезд и уедет. Он не станет ходить и толковать: уехать или не уехать… рисоваться не станет, а бросится в поезд или пешком уйдет без оглядки! Он не сможет со мной находиться в одном городе. Так и человечество — как обезумевшее стадо, мчится, убегает, кричит, извивается, потому как ощущает, как некая сила преследует его, пожирая каждый день сотни тысяч людей — ничего себе палец!
опять послышалось, что на чердаке кто-то есть: ходит, переставляет мебель, даже послышалось, будто прочистил горло, выдвинул и с хлопком задвинул какой-то ящичек, хрустнула дверца шкафа (так у нас хрустела мебель в П., когда топили первые дни в октябре).
Не выдержал. Вышел проверить. В коридоре Стропилин за ухо тянул маленькое существо, сперва даже показалось карлика, обезьянку. Извинился — я обмер и пошел к себе, а потом вышел проверить, по лесенке: на чердаке пусто, совсем пусто, только стоят сундуки, и никого. Спускаюсь — Стропилин, мнется, тянет манжету, приносит робкие извинения, объясняет: это была его теща. Она «убежала». Мямлил, мялся, выясняется — он в чулане ее держит, а она вырвалась.
— Веревку, хитрая бестия, подточила чем-то. Теперь затянул крепким шнуром. Простите за неловкость! Это так нелепо! Так смешно! Она не в себе — за ней глаз да глаз. Такое неудобство для всех. — И шепотом добавил: — Не говорите фрау Метцер. Она не знает, что с нами теща.
— А разве она за нее с вас больше возьмет? Она же за комнаты берет.
— Все равно не говорите, пожалуйста. Я не сказал, когда вселялись, побоялся — больной человек, никто не знает, что на уме, — за вас неудобно-с.
— А я тут при чем?
— Вы все-таки поручились. Потому не сказал, побоялся, а теперь как-то неловко… post factum. Понимаете, как это выглядит? Как человеческая контрабанда!
— Так это она по чердаку шастает?
Он развел руками.
— А вы не слышали, как кто-то по чердаку ходит?
Он пожал плечами. Пошел. Он так говорил про тещу, словно не с ним все это, не про свою жизнь, а про соседа. А может, он жизнь воспринимает, как лунатик. Немудрено: был учитель и редактор журнала, а теперь никто.
Вот опять что-то грохнуло. Нет — на этот раз в дверь стучат.
Ребров отложил записи. Встал. Открыл: Стропилин. В костюме, с галстуком. Платок из карманчика. И надушен!
— Извините за беспокойство.
— Да ну что вы, никакого беспокойства, — угловатым жестом Ребров пригласил писателя войти. — Пожалуйста! Вы куда-то собрались?
— Нет, я к вам. Вы так не мерзнете?
— Нет, я привык.
— Холодно у вас. — И воздух понюхал.
— А у вас, все хорошо? Ничего не случилось?
— Случилось? Нет. То есть да. За этим и пришел.
Евгений Петрович порывисто сделал два шага, но не успел разогнаться, остановился перед полкой с книгами, обернулся вокруг своей оси, оглядываясь, куда бы сесть. Посмотрел на мольберт, прикусил губу.
— Простите за вторжение! Честное слово, я никоим образом не хотел прерывать вашей работы…
— Пустяки. Я и не работал вовсе. Только краски переводил. Чай, вино?
— От бокала вина не откажусь. — Стропилин сцепил и расцепил пальцы.
— Присаживайтесь в кресло. — Ребров схватил с кресла распахнутый том, поставил на полку. — Так что у вас случилось?