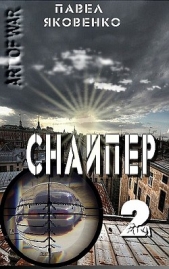Харбинские мотыльки
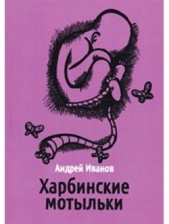
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Добровольский уступил место другому оратору, но старик еще не раз поднимался, чтобы что-нибудь сказать, оглядывался со своего стула на остальных.
Выходили под лампу другие… говорили, высказывались… Сундуков ухмылялся, себе под нос насмешливо комментировал, делал замечания, немного наклонив на плечо голову, поэтому Реброву казалось, что он ему говорит, хотя, возможно, он сам с собой говорил. Высокий однорукий бородач в офицерском мундире, с крестами на груди, зачитал короткий доклад о Вонсяцком; у него не было бумаг, только маленькая карточка в руке, настолько маленькая, что ее было даже не видно; время от времени он заглядывал в кулак и что-нибудь добавлял. Был как деревянный, напряженный и несгибаемый, заметно волновался, голос дрожал, но дрожал мелодично, словно он стихи читал; казалось, он делился со слушателями своими ностальгическими воспоминаниями. Поднимал брови, устремлял печальный взгляд вдаль, вздыхал… Если бы сейчас кто-нибудь наиграл на скрипке, подумал кунстник, то было бы похоже на литературное чтение:
Ребров заслушался, разглядывая его: сапоги, кресты и пуговицы на нем блестели, рукав был аккуратно подоткнут сбоку женскими булавками. Впереди сидела дама, с которой он пришел; она сидела с прямой спиной, выглядела очень важной. Сундуков негромко вставлял: так-так… ну да… допустим… а это хорошо… Было видно, что он в чем-то согласен с Вонсяцким, а в чем-то поспорил бы; Сундуков заводился, прочищал горло, его ноги ходили под стулом, влажные толстые губы шевелились, как гусеницы. Докладчика сменил Каблуков, зачитал статью брата; там было все то же: движение к национальному самоосмыслению через православие, и всюду был враг, опять Византия, и на этот раз русский народ удостоился чести спасти человечество от невидимого врага… который питается человеческими страхами, крадет масло из светильников и ложные вливает помыслы…
Кунстник заскучал. Появилась тошнота. Надо чего-нибудь съесть, и поскорей. Если б не голод, ни за что не пошел бы. Но как это просто: жить с невидимым врагом, верить, что Бог тебя пасет, а некий враг караулит, как вор в подворотне! Это так просто — убеждать себя, что ты — светильник и надо стеречь свое масло, тогда спасешься, — так просто думать, что нечто за тобой следит, что ты избран и кому-то там нужен, твой народ — богоносец, а сам ты — мессия! Гораздо сложней жить и не верить ни во что — вот где одиночество, подлинное одиночество, непроницаемое, как ночь. Быть покинутым, без костыля и опоры, без всяких поводырей! Скорее всего, Алексей придумал себе врага, который его стережет, чтобы не бояться одиночества, чтобы хоть что-то было рядом…
Важно вышел Терниковский, без прежней суеты рассказывал о своей переписке с генералом Араки, поднимал глаза к лампе с иероглифами, разводил ладонями, точно в мольбе, растягивал слова, говорил с придыханием, чуть ли не шепотом, напустил оккультного дыму, и вдруг в этом облаке Борис неожиданно и не без удовольствия обнаружил, что Терниковский жонглирует его мыслью, которою художник с ним поделился во время случайного спора: история — движение бессознательной массы, политика — искусство манипулирования этой массой (и сравнение политиков с карточными шулерами!). Но основное, что тогда сказал Ребров Терниковскому: человек ничто в потоке истории, история сама катится, как придется, — Терниковский опустил, более того, потихоньку заводясь, он говорил совершенно противоположное: личность, осознавшая свою национальную принадлежность, личность, которая знает свои корни, осознает свою народную, Богом данную миссию, только такая личность творит историю и из букашки превращается в гиганта! В сверхчеловека! В Прометея! Как фокусник, достал портрет Муссолини… и продолжал в привычном ключе: заходился до кашля, сжимал кулаки — аж костяшки белели, антисемитские лозунги из него вылетали, как монетки из треснувшей копилки.
Кунстник съежился; ему было стыдно, что минуту до этого он самодовольно на всех посматривал, несколько гордясь собой, — смотрел на Терниковского и думал: повлиял же!.. Но как только появился портрет и во все стороны полетели слюни, ему захотелось уйти…
Люди оживились. Ерзали и кивали. Сундуков улыбался. Запахло потом. Ребров не выдержал, тихонько вышел на кухню. Там была приоткрытая дверь, что вела в какой-то будуар, Ребров заметил краешек атласного балдахина с кисеей, большое зеркало, в глубине которого был женский силуэт, — дверь тут же захлопнулась. Он подышал в окно. Полегчало. Вышел и Колегаев. Из-за его спины вынырнула девушка, которая встречала в передней, приготовила им чай. Ребров и Никанор с жадностью съели по булочке.
— Опоздал, — качал головой Никанор, — никак не мог найти. Знаю, что где-то за фабрикой, я тут работал три года, пока не выперли, искал, искал, черт разберет в потемках. Фонари почему-то не светят. Два раза пролетел мимо. А лужи!.. А гололед!..
— Да, да, — кивал Ребров, — и гололед, и лужи…
— Ненавижу! Что за мокрядь! Хотел тоже выступить, вот, — показал бумаги, — даже подготовил кое-что, но стал слушать и понял, что не стану. Такие глупости говорят, что и начинать нет смысла.
— Зачем же вы тогда пришли? — вылез из-за шкафчика Сундуков, позвякивая ложечкой в стакане. Рядом с ним Иван, булочку жует, ножкой притоптывает. Колегаев не растерялся.
— А в основном посмотреть на то, что стало с человеком, который арестовывал уважаемого генерала Юденича, — язвительно произнес анархист, вытянулся и заулыбался, длинные пряди белых волос спадали на его большой лоб, желваки играли.
— Эт-то вы-вы о ком?
— Не знаете, чей пьете чай? Чей хлеб едите? — продолжал говорить загадками анархист. — Терниковский! Как был балаховец, таким и остался. Ишь, вырядился! Людей вокруг собрал, чтоб полюбовались.
Видели камень с крестом на груди? Это Тигровый глаз. Камень барона Унгерна! Ну и деньки были… — сказал он в сторону художника. — Барон его у одного бакши выменял, дорогая вещь, удачу приносит… Балахович его в карты у барона в Чите выиграл. Не знаю, за какие заслуги этот камень оказался на груди Терниковского. Знал бы он, что этот камень повидал… Эх-хе-хе…
Никанор ушел в себя, стоял, вспоминал что-то, вздыхал, грустно улыбаясь. Иван перестал стучать ножкой. Сундуков буркнул, что будь тут сам Вонсяцкий, он непременно задал бы ему пару вопросов.
— А то сидит в своей Америке, письма шлет, а их тут зачитывают, из уст в уста пересказывают. Где газета? Почему нет центра? Финансирования? Название партии какое-то странное, к тому же все это не утверждено, не продумано как следует и не оригинально. Кстати, никто из докладчиков ни слова не сказал о том, что в России голод, а это важно и очень хорошо!
— Что ж хорошего? — возмутился Колегаев. — Люди умирают…
— Это очень хорошо, что умирают, — сказал Сундуков. — Теперь поймут, какую власть выбрали, поймут, что за бесхозяйственные мерзавцы страну в свои руки взяли… и грабят! Расхищают! Воры! Вот кому народ страну отдал! Комиссарам, которые ничего не смыслят в экономике!
Стали выходить люди. Доклады кончились. Шли пить чай. Загудели. Голова у кунстника налилась. Хотелось курить. Ложечки позвякивали. Кипятку всем не хватало. Просили кружки сдавать. Ребров быстро отдал свою, и Никанор тоже, а Сундуков пил, тянул, чавкал и насмехался над советской властью, пересказывал анекдоты… и все добавлял:
— Ничего, ничего, скоро придет тот день, когда образумится народ, будет душить и вешать комиссаров!
Кто-то сказал ему:
— Да что ж в этом хорошего? Вешать, душить…
Сундуков опять наговорил гадостей, и над каждой гадостью похихикал. Ребров злился. Колегаев не выдержал и сухим, трескучим голосом сказал ему громко, чтоб все слышали: