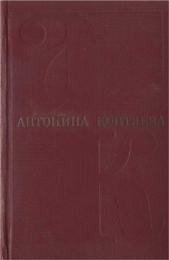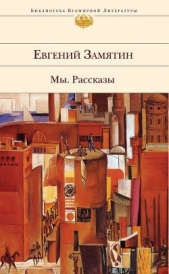Тени минувшего

Тени минувшего читать книгу онлайн
Евгений Севастьянович Шумигорский (1857–1920) — русский историк. Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. Был преподавателем русского языка и словесности, истории и географии в учебных заведениях Воронежа, а затем Санкт-Петербурга. Позднее состоял чиновником особых поручений в ведомстве учреждений императрицы Марии.
В книгу «Тени минувшего» вошли исторические повести и рассказы: «Вольтерьянец», «Богиня Разума в России», «Старые «действа», «Завещание императора Павла», «Невольный преступник», «Роман принцессы Иеверской», «Старая фрейлина», «Христова невеста», «Внук Петра Великого».
Издание 1915 года, приведено к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одной из причин, послуживших всего более к тому, чтобы подорвать его доверие к Владиславовой (камер-фрау), говорит Екатерина, «была ее набожность — основной пункт, которого он никогда не прощал; кроме того, в ее комнате была лампада перед образами, чего он не выносил. Хотя это было в обычае по нашей вере, но его императорское высочество нисколько не был привязан к ней; напротив, он воображал, что принадлежит к лютеранскому исповеданию, в котором был воспитан, но в глубине души он ничем не дорожил и не имел никакого понятия ни о догматах христианской веры, ни о нравственности. Я никогда не знавала атеиста более совершенного на деле, чем этот человек, который между тем очень боялся и чорта, и Господа Бога, и чаще всего их обоих презирал, смотря по тому, представлялся ли к этому случай, или им овладевало минутное настроение» [23]. Екатерина пробовала открыть глаза мужу, повлиять на его поведение, но попытки эти не вели ни к чему хорошему. «И тогда уже его ребячество и болтливость сильно ему вредили и лишали уважения людей самых благонамеренных. Я решилась откровенно поговорить с ним об этом, но была плохо им принята, и он объявил, мне, что не желает моих наставлений: достаточно уже надоели ему столь великие истины, но ему глубоко внушили, чтоб он не позволял жене управлять собою, и это заставляло его быть настороже против всего разумного, что я могла ему сказать. Он тогда лишь следовал моему совету, когда требовала того крайняя необходимость, и когда он находился в беде. Впрочем, я должна согласиться, что, в виду крайней разницы наших характеров, мнения или советы, какие я могла ему дать, не соответствовали ни его взглядам, ни характеру и вследствие этого почти никогда не приходились ему по вкусу» [24].
Видя, что никакие «Инструкции» не исправляют племянника, императрица Елисавета мало-помалу охладела к нему. Государыня набожная, глубоко преданная православию и страстно любившая Россию и русский народ, которому она не знала равного, императрица Елисавета Петровна была вполне русской царицей и хотела, чтобы ее наследник возрос в тех же чувствах; велико было ее горе и разочарование, когда она убедилась в обратном. Но, в противоположность своему племяннику, она действовала осторожно и медлительно: давая ему чувствовать свое неудовольствие, она все-таки надеялась, что время и привычка сдружат великого князя с Россией: дочь Петра Великого не могла себе представить, чтобы маленькую Голштинию можно было предпочесть великой России, чтобы можно было не любить набожного, преданного и могучего народа и его интересы жертвовать интересам мелких немецких государств. Предоставляя все времени, Елисавета, по возможности, удалялась от великокняжеской четы, так как самый вид племянника начинал приводить ее в раздражение. «Хотя мы жили в одном доме, наши покои соприкасались как в Зимнем, так и в Летнем дворцах», говорит Екатерина, «но мы не видали ее по целым месяцам, а часто и более. Мы не смели без зова явиться в ее покои, а нас почти не звали. Нас часто бранили от имени ее величества за такие пустяки, относительно которых нельзя было и подозревать, что они могут рассердить императрицу. Она посылала к нам для этого не одних Чоглоковых, но часто, бывало, гоняла к нам горничную, выездного или кого-либо в этом роде, передать нам не только чрезвычайно неприятные вещи, но даже резкости, равносильные грубейшим оскорблениям» [25]. Приближенные Елисаветы также не любили великого князя, у которого друзей не было, а врагов было столько, сколько волос на голове. Главным врагом великого князя являлся канцлер Бестужев, национальная политика которого, направленная к «сокращению скоропостижного прусского короля», Фридриха II, встречала в лице наследника русского престола ожесточенного и неразумного противника. Около Бестужева группировались все более или менее влиятельные люди того времени, и ему сочувствовал даже сам тайный супруг императрицы, граф Алексей Григорьевич Разумовский. Среди этих людей уже в это время возник вопрос о необходимости устранить Петра Феодоровича от наследования русского престола в случае кончины Елисаветы.
В начале 1749 года двор переехал в Москву, но здесь императрица заболела, и так опасно, что боялись за ее жизнь. Естественно, что мысль о восшествии Петра Феодоровича на престол не улыбалась никому из русских людей, окружавших трон Елисаветы, как сообщает датский посланник Линар, человек близкий к Бестужеву. «Целую ночь, — говорит Линар, — были собрания и переговоры, на которых, между прочим, решено было главными министрами и высшими властями, что, как скоро государыня скончается, великого князя и великую княгиню возьмут под стражу и императором провозгласят Иоанна Антоновича. Число лиц, замешанных в это дело, было очень велико, но до сих пор никто друг друга не выдавал. Я подозреваю многих в участии в этом заговоре, особенно же лиц, имеющих причины опасаться великого князя и весьма естественно ожидающих более милостей от принца, который им обязан будет всем» [26]. Как представитель Дании, боявшейся, что Петр, по вступлении своем на престол, объявит ей войну для возвращения Шлезвига любимой им Голштинии, Линар мог, конечно, только сочувствовать этому намерению вельмож и даже содействовать в этом смысле Бестужеву, пользовавшемуся огромным влиянием в это время после ссылки графа Лестока, бывшего приверженцем Пруссии. Для большего успеха дела о болезни императрицы запрещено было сообщать великокняжеской чете, и Чоглоковы, как креатуры Бестужева, действительно сделали все возможное, чтобы весть о болезни Елисаветы дошла до великокняжеской четы как можно позже. Вновь открытая редакция «Записок Екатерины» вполне подтверждает известие Линара, дополняя его новыми подробностями. «Пока я в начале 1749 года сидела в комнате (по нездоровью), — говорит она, — я узнала частью от моего камердинера Евреинова, частью от г-жи Владиславовой, которые, однако, друг от друга таились, что императрица опасно заболела от колик вследствие запора. Чоглоковы ни слова нам об этом не говорили, а мы не смели осведомляться о здоровье императрицы. Это было бы преступлением, и нас стали бы расспрашивать, от кого мы знаем, что она больна, что могло бы вызвать несчастие или по крайней мере увольнение всякого, кто нам об этом сообщил. Я рассказала великому князю в точности то, что мне передали мои люди. Мы оба решили молчать до тех пор, пока Чоглоковы сами не заговорят с нами об этом, но они ни слова нам не сказали.
Когда императрице однажды ночью было очень плохо, мы узнали, что граф Бестужев и генерал Апраксин спали или провели ночь у Чоглоковых. Между тем, мы с великим князем были довольно встревожены этой болезнью императрицы, которую от нас таким образом скрывали; Чоглоковы едва обращали на нас внимание. Мы не смели без позволения выходить из наших комнат; мы узнали, что у графа Бестужева и генерала Апраксина с несколькими другими лицами, на преданность которых мы не могли особенно рассчитывать, были постоянные маленькие совещания, совершенно тайные и при закрытых дверях; мы не знали, чему это приписать. Великий князь в особенности, при своей трусости, не знал, какому святому молиться. Я внушала ему мужество, просила держать себя весело и спокойно и говорила ему, что я постараюсь быть возможно лучше осведомленной чрез моих людей о состоянии здоровья императрицы, а если бы она умерла от этой болезни, то я открою ему двери, чтобы он мог выйти из своих покоев, где его держали, так сказать, взаперти, и если бы другого свободного выхода не оказалось, то окна наших покоев в нижнем этаже были достаточно низко расположены, чтобы можно было в случае нужды выпрыгнуть на улицу. Кроме того, я ему сказала, что полк графа Захара Чернышева, на которого, мне казалось, я могла рассчитывать, находился в городе, и что несколько капралов лейб-компании, которых я ему назвала, не покинули бы его. Все это его успокоило и побудило довольствоваться у себя в уголке собаками и скрипкой. После нескольких дней крайне опасного положения, в течение которых много шептались во всех комнатах дворца, императрица почувствовала себя лучше, и каждый вернулся в свою скорлупку. Я имела довольно точные сведения два-три раза в день от своего камердинера и Владиславовой; у последней было много, различных связей с людьми императрицы, в комнате которой были родственницы, знакомые и друзья; кроме того, священники и придворные певчие были с ней в самых близких отношениях и во время трех церковных служб, которые эта женщина регулярно посещала почти каждый день, не оставляли ее в неведении всего, о чем они узнавали; все это она мне и передавала с величайшею точностью». Но этим дело не кончилось. Когда императрица стала выздоравливать, Екатерина имела случай рассказать Шуваловой, любимице императрицы, о своем беспокойстве по поводу ее болезни. «На другой день утром Чоглокова совсем вне себя пришла в мою комнату, но так как я с великим князем была в комнате Владиславовой, которая примыкала к моей, она влетела туда и, обращаясь ко мне, сказала, что ее величество была возмущена тем, что в течение всей ее болезни, которая продолжалась около двух недель и была очень серьезна, я ни разу не послала справиться о ее здоровье, что я говорила с Шуваловой о ее болезни только тогда, когда ей было уже лучше, и что было непростительным поступком со стороны великого князя и моей, что мы ни разу не осведомились о состоянии здоровья императрицы. Я ответила Чоглоковой, что ни она, ни муж ее вовсе не сказали мне ни слова о болезни ее величества. Она мне возразила: «Но вы об этом говорили с Шуваловой». Я ей сказала, что Шувалова сама подала к тому повод, и это была правда. Чоглокова вышла, поворчав еще и насказав еще много неприятностей, одну хуже другой. Когда же она ушла, великий князь, в свою очередь, стал меня бранить за то, что я говорила с Шуваловой о болезни императрицы: если бы не это, можно было бы думать, что мы ничего о ней не знаем.