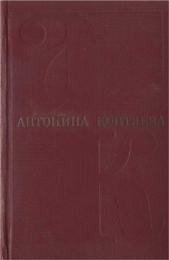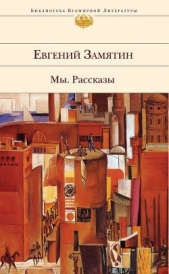Тени минувшего

Тени минувшего читать книгу онлайн
Евгений Севастьянович Шумигорский (1857–1920) — русский историк. Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. Был преподавателем русского языка и словесности, истории и географии в учебных заведениях Воронежа, а затем Санкт-Петербурга. Позднее состоял чиновником особых поручений в ведомстве учреждений императрицы Марии.
В книгу «Тени минувшего» вошли исторические повести и рассказы: «Вольтерьянец», «Богиня Разума в России», «Старые «действа», «Завещание императора Павла», «Невольный преступник», «Роман принцессы Иеверской», «Старая фрейлина», «Христова невеста», «Внук Петра Великого».
Издание 1915 года, приведено к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Екатерину Алексеевну тем более возмущало поведение великого князя, что она ясно сознавала свое умственное превосходство над ним. Едва приехав в Россию, она быстро поняла свое положение в чуждой для нее остановке и, желая стать в уровень с возложенными на нее надеждами, не руководимая никем, более того, даже иногда вопреки матери, естественной своей руководительнице, составила себе план поведения, совершенно противоположный поведению будущего своего супруга. Во вновь открытой, ранней редакции своих «Записок» Екатерина писала следующее: «вот рассуждение или, вернее, заключение, которое я сделала, как только увидала, что твердо основалась в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту:
1) нравиться великому князю,
2) нравиться императрице,
3) нравиться народу.
Я хотела бы выполнить все три пункта, и если мне это не удалось, то либо желанные предметы не были расположены к тому, чтоб это было, или же Провидению это не было угодно; ибо, поистине, я не пренебрегала ничем, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать, как следует, — все с моей стороны постоянно к тому употребляемо было с 1744 по 1761 г. Признаюсь, что, когда я теряла надежду на успех в первом пункте, я удваивала усилия, чтобы выполнить другие два желания; мне показалось, что не раз успевала во втором, а третий мне удался во всем своем объеме, без всякого ограничения каким-либо временем, и, следовательно, я думаю, что довольно хорошо исполнила свою задачу. Остальное, что я скажу, лучше пояснит то, что я уже сказала. Этот план в конце концов сложился в моей голове в пятнадцатилетнем возрасте, без чьего-либо участия, и самое большое, что я могу сказать, это то, что он был следствием моего воспитания; но если я должна сказать искренно, что я думаю, то я смотрю на него, как на плод моего ума и моей души, и приписываю его лишь себе одной; я никогда не теряла его из виду; все, что я когда-либо делала, всегда к этому клонилось, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть».
И Екатерина блестяще доказала свой ум в скором времени по приезде в Россию. Между тем как ее мать тотчас по приезде в Россию спрашивала у императрицы, не может ли дочь ее сохранить лютеранство, выходя замуж за великого князя, и во время постигшей Екатерину тяжкой болезни спешила пригласить к ней лютеранского пастора, сама Екатерина, придя в сознание, просила послать за своим законоучителем, архимандритом Симеоном Тодорским. Выказывая усердие к православию еще до официального принятия его, Екатерина старательно изучала русский язык и, окруженная русской прислугой, делала в нем быстрые успехи. Это чрезвычайно возвысило Екатерину во мнении всех русских людей, и когда ее мать возбудила неудовольствие императрицы своими интригами, и зашла речь об ее отъезде, то императрица подавила в себе это неудовольствие лишь ради Екатерины.
Но при этом случае, пишет Екатерина, «я увидела ясно, что великий князь покинул бы меня без сожаления; что меня касается, то, в виду его настроения, он был для меня безразличен, но небезразлична была для меня русская корона». Надобно удивляться уму и самообладанию «15-летнего философа», как называла себя Екатерина, во всех случаях, когда люди и обстоятельства ставили ее в фальшивое положение. Собственная мать ее, принцесса Иоганна-Елисавета, уже возбудив неудовольствие императрицы своими сношениями с французским послом Шетарди, требовала от дочери, чтобы она в своих отношениях к окружающим руководствовалась ее симпатиями. Екатерина, в ответ на ядовитое поздравление Шетарди, что она причесана en Moyse, как нравилось императрице, сказала зазнавшемуся французу, что в угоду императрице она будет причесываться во все фасоны, какие ей нравятся. Шетарди, услышав такой ответ, сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше к ней не обращался. Брюммер обращался к Екатерине несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел ею воспользоваться, чтобы исправить и образумить великого князя, но Екатерина сказала ему, что это невозможно для нее, и что она этим только станет ему столь же ненавистна, как сам Брюммер и другие его приближенные; более того, Екатерина сама не раз играла и возилась с великим князем. «У нас обоих, — объясняет она, — не было недостатка в ребяческой живости». Тем не менее, когда великий князь стал бранить Екатерину за излишнюю, по его мнению, набожность, за то, что она слушала в своих комнатах заутреню во время Великого поста, она дала ему отпор. «Этот спор, — говорит Екатерина, — кончился, как и большинство споров кончаются, и его императорское высочество, не имея за обедом никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться». Тем не менее, не один Брюммер, но и голштинские камердинеры великого князя ожидали, что, выйдя замуж, Екатерина возьмет верх над своим супругом и подчинит его своему влиянию, и стали часто говорить ему, как надо обходиться с женою. «Румберг, старый шведский драгун, — пишет Екатерина, — говорил великому князю, что его жена не, смеет дыхнуть при нем, ни вмешиваться в его дела, что, если только она захочет открыть рот при нем, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому он это говорить, а потому его императорское высочество сам сразу рассказал мне все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел; он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением, и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидающей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для себя человеком, которому он мог все говорить без всяких для себя последствий. Это мне долго удавалось».
Уже приближался день свадьбы, когда во время переезда из Москвы в Петербург, в селе Хотилове, Петр Феодорович заболел оспой. «Когда затем императрица и великий князь возвратились в Петербург, — пишет Екатерина, — и я увидала его, никогда еще не испытывала подобного испуга, как в этот раз. Он только что оправился от оспы, лицо его было совсем обезображено и распухло до крайности; словом, если бы я не знала, что это он, я ни за что бы не узнала его; вся кровь во мне застыла при виде его, и если бы он был немного более чуток, он не был бы доволен теми чувствами, которые мне внушил». Екатерина «с отвращением» слышала, как упоминали этот день. «Чем больше приближался день моей свадьбы, тем я становилась печальнее, и очень часто я, бывало, плакала, сама не зная почему; я скрывала, однако, насколько могла, эти слезы, но мои женщины, которыми я была окружена, не могли не заметить этого и старались меня рассеять»… «По мере того, как этот день приближался, — говорит Екатерина в в другой редакции своих «Записок», — моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало: в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне ни на минуту сомневаться в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся быть самодержавной русской императрицей». Великий князь по-своему праздновал канун свадьбы, делавшей его, по его мнению, полноправным, взрослым человеком. В июле 1746 года двор переехал в Петергоф. «Здесь, — пишет Екатерина, — мне стало ясно, как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет: свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть не в их присутствии. Граф Брюммер и старший воспитатель видели его почти только в публике, находясь в его свите. Остальное время он проводил буквально в обществе своих слуг, в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы».