Люди остаются людьми
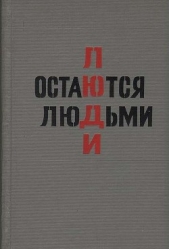
Люди остаются людьми читать книгу онлайн
Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.
В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.
Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.
Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бегу к седьмому блоку. Там живут немецкие цыгане, посаженные в Маутхаузен за отказ от работы. Нахожу немолодого жгуче-черного человека по имени Кики, здороваюсь с ним.
— Abend (Добрый вечер)! — отвечает он.
— Хлеб есть? — спрашиваю я по-немецки.
— Колбаса есть? — спрашивает он.
— Четыре порции, — говорю я. — Давай буханку.
Кики крутит пальцем около виска. Это значит, что я спятил.
— Сколько? — справляюсь я.
— Семь порций. — Кики ворочает желтыми белками глаз, пытаясь меня надуть — без этого он не может.
Теперь я кручу пальцем около своего виска: спятил, конечно, не я, а он.
— Сколько же? — равнодушно осведомляется Кики.
— Пять.
— Шесть, — торгуется он.
— Пять.
— Шесть, — повторяет он. — Кроме того, ты получишь сигарету.
— Две сигареты.
— Хорошо, — соглашается Кики и делает знак, чтобы я следовал за ним.
Мы заходим в полутемную умывальную — вашраум — и препираемся еще минуты две: Кики желает, чтобы я сперва отдал колбасу, и тогда он даст мне хлеб; я хочу, чтобы было наоборот — взять буханку хлеба, две сигареты и только тогда передать ему колбасу. Наконец я прячу хлеб под куртку, сигарету — в нагрудный карман, вторую сигарету Кики обещает отдать после (тоже попытка сплутовать), — и мы прощаемся, оба довольные.
— До свидания, старый мошенник, — говорю я.
— До завтра.
Мы с ним встречаемся не первый раз.
Я бегу переулками к своему блоку. У ворот снова стоит свирепый Володя. Я сую в его кулак сигарету и беспрепятственно проникаю во двор.

— Ужо свернут тебе шею, — ворчит он, озираясь.
Перед входом в барак я снимаю деревянные башмаки и, стараясь не привлечь к себе внимания штубового, на цыпочках пробегаю в шлафзал. Друзья ждут меня. При моем появлении их лица веселеют… Завтра перед работой мы съедим по куску хлеба, а это означает: завтра мы выдержим гонку. Завтра мы выстоим…
Мы лежим на жестких матрацах и вполголоса беседуем. Вот уже месяц, как мы в Маутхаузене. Политруков сюда больше не привозят: наверно, в лагерях для военнопленных выловили, кого могли, а новых нет; теперь ведь в нашей армии нет политруков, теперь у нас офицеры — к этому еще надо привыкнуть. И вновь попадающих в плен намного меньше: сейчас не сорок первый и не сорок второй. Сейчас отступают они, а не мы…
Интересно, сколько отсюда до линии фронта… Тысяча километров? А за какое время наши могут пройти этот путь? За месяц? За два? Два месяца, шестьдесят дней — с ума можно сойти. Выдержать еще шестьдесят дней!..
Еще один ясный вечер. Я влезаю в открытое окно шлафзала — сегодня я возвращаюсь на блок тем же путем, каким и выходил, — и вдруг кто-то грубо хватает меня за плечо.
В простенке меж окон, притаившись, стоит штубовой. Я спрыгиваю на пол. Он, не отпуская меня, зло улыбается.
— В лагере вшицко можно, али не можно попадаться: aber laß dich nicht erwischen. Verstanden (Понял)?
Я не отвечаю. У меня под курткой заткнутая за пояс буханка хлеба — это то, что еще дает нам держаться… Лишь бы он не обыскивал, думаю я. Пусть бьет, лишь бы не обыскивал.
— Понял? Verstanden? — И он ведет меня в свою комнату-штубу.
В комнате натертые желтые полы. У стены двухъярусная койка, заправленная клетчатым покрывалом. На столе белые цветы, Пахнет жареной колбасой.
Из-за занавески, отгораживающей левый угол штубы, показывается смуглый черноволосый немец Сепп. Он старшина карантинных бараков и одновременно заместитель старшины всего лагеря. Он сам редко бьет рядовых заключенных: предпочитает, чтобы их били другие. Я раза два разговаривал с ним, когда стоял у ворот, — он немного понимает по-русски.
— А, ключник! — придушенным голосом и как будто обрадованно произносит Сепп и приподнимает толстые черные брови.
Он прозвал меня почему-то ключником — черт его знает, почему.
— Стой тут, — дойдя со мной до середины комнаты, приказывает штубовой и шагает на другую половину барака.
Он возвращается вместе со Штумпфом — тот в сапогах и в белой нижней рубашке с засученными рукавами.
Штубовой берет со своей постели резиновую палку. Сепп удобно усаживается на табурет: вероятно, не прочь поразвлечься.
— Что случилось (Was ist los)? — спрашивает меня Штумпф.
— Теперь ты видишь, что это за птица! — возмущается штубовой. — Бандит из бандитов…
И он колотит меня резиной по голове. Он колотит короткими, быстрыми ударами и все по одному месту. Проклятая горилла, почему он колотит по одному и тому же месту?
— Момент, — говорит Штумпф. — Что тебе надо было на девятнадцатом блоке?..
Штубовой начинает вновь молотить меня по темени.
— Гавари, гавари, ты… Sauvogel (Свинская птица)! Сквозь мелькание резины вижу, как мрачнеет Штумпф. Он отодвигает штубового.
— Ты не птица… Ты величайшая свинья (Du bist das größte Schwein), — медленно выговаривает Штумпф и ударяет меня сапогом в живот пониже буханки.
Я отлетаю к стене, но все-таки удерживаюсь на ногах. Лишь бы они не нашли хлеб!
— Ab (Прочь)! — ревет Штумпф. Корчась от боли, я бреду в шлафзал.
Худо, очень-очень худо… Раз перед самым обедом Пауль застает меня и Толкачева в уборной — там мы отдыхаем от гонки. Пауль бьет нас резиной, потом Толкачезу приказывает таскать камни, а меня загоняет в глинистую яму с водой. Жидкая глина липнет к лопате и не отстает от нее, хоть плачь, я тороплюсь, надрываюсь, а над моей головой стоит командофюрер и покрикивает: «Schnell!» Когда покрикивает эсэсовец, это совсем плохо: потом он обязательно выстрелит. А глина липнет, и лопату никак не вытащить из вязкой массы… Спасает свисток на обед.
В другой раз, когда мы всей командой носим на наш участок, камни, мне достается массивный кругляк, который я не могу поднять на плечо. Пауль, поглядывая на меня, начинает возбужденно мусолить губы, подходит, посвистывая, эсэсовец — я из последних сил, так, что темнеет в глазах, рву камень кверху и, пошатываясь, как пьяный, волокусь на полусогнутых ногах к лестнице. Мне удается подняться только до половины: на девяносто восьмой ступени я оседаю, — но тут пониже меня раздается животный вскрик и грохот сорвавшегося камня, Пауль и эсэсовец бросаются к рухнувшему человеку, я быстро сваливаю свой кругляк в выбоину на земляном склоне обочь с лестницей и хватаю другой камень, полегче; внизу гремит выстрел эсэсовца, а мы, остальные, продолжаем медленно взбираться в гору… Для меня пока обошлось. А в следующий раз?..
Мы таскаем ящики с цементным раствором к лагерной стене. Огромные двенадцатипудовые ящики — один на двоих. Мы в отчаянии: если пальцы вдруг разожмутся или соскользнут с углов, — Пауль убьет…
Нас выручают политзаключенные испанцы-каменщики: улучив минуту, когда Пауль заходит в будку, они приколачивают к ящикам ручки. Пауль хлещет нас резиной, неистовствует, Пауль придумывает новые дьявольские способы угробить нас…
Худо, очень-очень худо. Я чувствую, что силы убавляются с каждым днем. Все больше слабеют мои товарищи: Жоре, Савостин, Толкачев, Затеев. Часть моих друзей из первой группы политсостава попадает в лагерный лазарет. Все они — Худяков. Костюшин, Виктор, Ираклий, Типот — дистрофики. Держится пока лишь Зимодра. Держится сам и пытается поддержать меня…
Уже конец августа. Сеет мелкий дождь. Мы возвращаемся с работы, но я не тороплюсь в барак. Я завожу разговор со свирепым Володей — одетый в брезентовый плащ, он стоит на своем посту у ворот. Я говорю ему, что он славный парень и мог бы быть еще лучше, если бы…
Одновременно одним глазом я слежу за переулком внизу под нами, где вот-вот должен появиться Зимодра.
— Что если бы? — буркает Володя.
— Если бы ты побольше сочувствовал другим. Он недобро ухмыляется.
— Ты, сочувствующий, долго простоял тут?
— Это неважно.
— Важно, — торжествует он. — Умри ты сегодня, а я завтра.

























