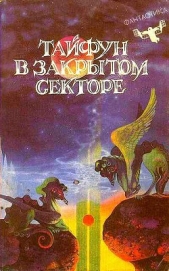Одолень-трава

Одолень-трава читать книгу онлайн
Гражданская война на севере нашей Родины, беспощадная схватка двух миров, подвиг народных масс — вот содержание книги вологодского писателя Ивана Полуянова.
Повествование строится в своеобразном ключе: чередующиеся главы пишутся от имени крестьянки Федосьи и ее мужа Федора Достоваловых. Они, сейчас уже немолодые, честно доживающие свою жизнь, вспоминают неспокойную, тревожную молодость.
Книга воспитывает в молодом поколении гордость за дело, свершенное старшим поколением наших современников, патриотизм и ответственность за свою страну.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Девчонке все равно где окочуриться, зато мне лишняя морока, поскольку отчет представляю начальству в головах.
Доктор сказал, что за справкой дело не станет, между тем, если я включена в этап, то в Архангельске нужна живая, не худо бы меня поместить на время в больницу.
Звали доктора Антоном Ивановичем, за глаза сиделки дразнили его Тоней, и был он молод, на румяных девичьих щеках пушок.
Четыре дня — много или мало?
В запертой на замок каморке топчан и табурет, в углах пыльная паутина, и никто не мешает: думай… Думай, Чернавушка! Что ноги кровоточат, губы в простудных болячках — пустое, не трать внимания! Главное для тебя решить: «Кто ты? От кого ты?» А я от той теплинки малой, от костра, над которым молоко в котелке закипело, пена шапкой; от головней, раскатившихся по муравчатому лужку под нашими березами; от травинки полевой — «родиной» ее зовут, и под снег она уходит с цветами.
Если ступни ног в болячках, жар в голове, так это пустое. Просто снег был черный, ветер был белый и я обронила корешок одолень-травы…
Четыре дня, четыре ночи — много, вполне хватит, чтобы подумать за ту былинку, которая зеленой уходит под снег.
Однажды на вечернем обходе Антон Иванович принес валенки. Присел на топчан и сказал:
— Морозит.
— Слава богу, — сказала я. — Скорей бы попасть на место. По ошибке арестовали, разберутся в Архангельске и выпустят.
— Не долдонь! — залился румянцем Антон Иванович. — Себя обманываешь!
Он сорвался, забегал по каморке.
— Нет, не могу. Это же крайняя грань нравственного падения. Презираю!.. Трусы, кем прикрываются, кого посылают на смерть?
Барышня Тоня, шелковые ресницы, румянец на щеках, откуда ты взялся? Из Кузнечихи, что в городе Архангельске, из-под маменькина теплого крылышка, из мезонинца с жестяным флюгером на крыше, с коровой в сараюхе… Знаю! От ваших сиделок все знаю!
— Я выпущу тебя. Пусть имеют дело со мной. Только не воображай: не питаю к тем, кто послал тебя, любови! — и ногой он шаркнул, кланяясь. — Нет любови, то не прикажешь. Но я русский интеллигент, это обязывает, черт побери.
Горд собою барышня Тоня, и я опустила глаза. Не хочу спугнуть его радость: научилась ценить и чужую.
— Вы мне поможете? Да? Правда?
Он буркнул:
— О чем разговор!
— Вот косы бы остричь…
Антон Иванович сразу потух. Он оскорбился. Ей-богу, надулся, точно ребенок.
Ножницы все же принес. Корная мои косы, очень злился, обиженно сопел, и было мне почему-то тепло и хорошо.
Двери он не запер. Замок демонстративно бросил на табурете.
Трюх-трюх лошадка, бряк-бряк колечко в дуге. Под угор рысцой трюхает лошадка, в гору плетется шажком.
Заяц напетлял на поляне, следы синеют сине-сине, мягко-мягко. На кусте снегири — ох, и ухари, армячишки нараспашку, алые рубахи навыпуск, грудь колесом! При солнце с ясного неба сыплются звезды. Маленькие, хрустальные. Коль вьются, порхают вкруг хвойных игол снежинки, это зима вяжет кружева.
Милый снег, разве ты черный? Ты белый, ты нежный, и разве я чего-нибудь пожалею, чтобы ты был всегда таким?
Через Двину переправились по льду у деревни Ширша.
Предвещая близость города, проступили в небе трубы лесозаводов. Они приближались медленно-медленно.
Фельдфебель вскочил в передок розвальней к вознице:
— Наддай, погреемся напоследок.
Он не упускал случая «погреться». Где чайком, где водки добудет. Меня оставляли в санях, под рядном. Для очистки совести ткнет фельдфебель кулаком в котомки, арестантские пожитки:
— Не околела?
Отзовусь — ладно, промолчу — так сойдет. Приучила за дорогу: куда денусь безногая?
Возница хлестнул по лошади, потрюхали, версты на две тихоходный этап обогнали.
До чего рано здесь наступают потемки: вовсе отемнело, будто ехали мы навстречу ночи, приехали в самую ночь.
Фельдфебель, откинув башлык, обминал с усов сосульки и командовал:
— Правее, держи в проулок.
Бараки, все бараки по сторонам. Наверное, пригород, рабочая окраина.
Немного спустя возница задергал вожжами:
— Тпр-р, дохлая!
В прореху в ряднине мне видно: площадь, сани у коновязи грудятся, как табор.
Табор и есть. Ага, цыганский. Везде им дорога, цыганам, везде место.
— Что такое? — спрашивал возница. — Куда заехали? Постоялый двор?
— Постоялый? — фельдфебель слез, хлопая рукавицами, покрякивал, разминаясь. — Бери выше. Бар! Пивная, значит. А мы с тобой вон до той хибары смотаемся. Спиртишник тут водится у одной вдовы.
Возница затянул узлы веревок, крепивших поклажу, спросил:
— Жива, девка? Поглядывай, чтоб вожжи не сперли.
Буду… Буду поглядывать, не впервой мне.
Они ушли. А я поглядываю. В баре двери настежь. У стойки солдаты: оранжевые шубы, меховые высокие шапки, на шеях на веревочках болтаются огромные рукавицы… Каманы! Перёд ними пляшет девочка-цыганка.
Подкатил грузовик.
Солдаты кидали цыганке мелочь, девочка присела собирать монеты.
Галдят цыгане у кибиток. Снег синий, по баракам огни…
Вывалили каманы гурьбой. Подсаживая друг друга, полезли в кузов.
Ужом выточилась я из-под рядна. Поправила котомки. Так, хорошо. Не скоро меня хватятся. И под брюхо лошади, и скорей к грузовику:
— Солдатики, подвезите!
Терять нечего, если в самую ночь попала.
Один солдат швырнул монету, приняв меня за цыганку, другой, хохоча, перегнулся через борт, втащил в кузов.
«Танце… танце!» — просили солдаты сплясать, им было весело. Еще бы, цыганку увезли из табора — приключение! Грузовик пыхнул чадной гарью и рванул с площади.
Собачонка выбежала из подворотни, беззвучно разевая пасть, — накрыло лохматую колесами, исчезла в вихре снежной пыли.
Ребятишки врассыпную с дороги, для острастки шофер просигналил им сиреной. Тутой воздух выдавливал на глазах слезы, свистящим гулом закладывал уши, громыхали рессоры, тряслись борта. Мелькали телеграфные столбы, освещенные окна и вывески. Магазины чаще и чаще, ярче витрины, булыжник сменил деревянную мостовую — грузовик на скорости ворвался в город.
Я присела на корточки: покидывает на ухабах, того смотри, вылетишь вверх тормашками. Солдат швыряло в кузове от борта к борту.
Притормозил грузовик у перекрестка.
Не помню, как перевалилась через борт. Что хотите, не помню, и все.
Никакого плана побега не было: Зачем лгать? Правда всего дороже. Ничего я не успела обдумать. Только сердчишко скакало и замирало, только переплетались тесно, составили единую цельную связь цыганка в длинной юбке, плясавшая перед солдатами в баре, и монетки, рассыпавшиеся по полу, и рыжие полушубки, повалившие гурьбой к грузовику, и то, что отец зовет меня Чернавушкой.
Грузовик скрылся. Текла по тротуарам толпа.
Я была свободна. И не могла шагу ступить. Не могла, и все тут. Руки-ноги отнялись. Тот мне поверит, кто мое на себя примерит.
Ревя моторами, пролетели мотоциклы, грузовики с вооруженными солдатами.
Парасковья-пятница, меня уже ищут?
«Проклаждайс, на свежу голову лючче думай!» Босые ноги опалили огнем, горло окостенело. Я стону, задыхаюсь, словно в удушье.
Но это дурной сон, и дома я… Дома! За окном белые березы, Федька ждет кататься со взвоза, к санкам у него подвязан поддужный колоколец. Ишь, названивает колоколец, выговаривая: трень-брень, трень-брень.
Открываю глаза.
Дом… Дом опять не твой!
Двери кухни приотворены, видны часы в футляре из полированного дерева. Раскачивается медный маятник, выговаривая «трень-брень». Вышивки на стенах, на комоде и диване. Вышитыми салфетками закинуты граммофон и столик с семейным альбомом в бархатной обложке. Богачество! Выставляется богачество разинутой трубой граммофона, ножной швейной машиной «Зингер», лаковыми листьями огромного фикуса, полосатыми гардинами, суконным с золотыми нарукавными нашивками мундиром на спинке стула…