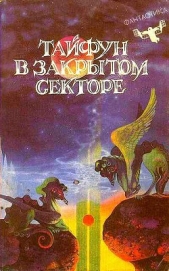Одолень-трава

Одолень-трава читать книгу онлайн
Гражданская война на севере нашей Родины, беспощадная схватка двух миров, подвиг народных масс — вот содержание книги вологодского писателя Ивана Полуянова.
Повествование строится в своеобразном ключе: чередующиеся главы пишутся от имени крестьянки Федосьи и ее мужа Федора Достоваловых. Они, сейчас уже немолодые, честно доживающие свою жизнь, вспоминают неспокойную, тревожную молодость.
Книга воспитывает в молодом поколении гордость за дело, свершенное старшим поколением наших современников, патриотизм и ответственность за свою страну.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но тебе-то какова цена, Чернавушка: дюжина иголок!
— Документы, — потребовал офицер.
— Поимейте милость, ваше благородие. За тетку не ответчица. Хотите знать, в глаза ее не видывала. Отпустите, ваше благородие.
Вижу теперь, дошло до меня, кто за столом с коробками полевых телефонов и штабными картами: Чаплин! Бывший командующий вооруженными силами Севера России!
Ладно, есть их, командующих, верховных. Колчак — верховный, Чайковский — опять верховный…
О кавторанге Чаплине специально предупреждали в Вологде, дядя Леша говорил: «Не нарвись…»
— Документы! Оглохла? — повторил Чаплин.
— Были. В котомке, — встрепенулась я. — Рожа бесстыжая, Никита на самогонку их толкнул. Похвалялся, ваше благородие: «Красные, говорит, были, на митингах голосовал: «Долой войну». У белых снова в чести. В окопах, говорит, загибаться дураков нет». Истинный бог, ваше благородие, на мои вещи позарился, поэтому арестовал. И сейчас пьяный… Ну, дыхни, дыхни их благородию!
— Креста на тебе нет, мерзавка, — закорчился Никита от злобы. — Ишшо божится!
— Я без креста? А это что, харя пустая?
Расстегиваю кофтенку, чтобы показать нательный крест, и Чаплин отвернулся. Каман по-прежнему лупит совиные зенки. Сыч… истинно сыч гуменный! Веки тонкие, точь-в-точь птичьи. Зрачки тусклые, и глаза кажутся пустыми, плоскими, они странно действуют на меня, будто затягивают в омут.
Засыпалась. Определенно засыпалась Чернавушка. Нарвалась.
Достаю я крестик, корешок взял и выпал на пол.
Чаплин не дал поднять, наступил сапогом. Кивнул Никите;
— Пшел вон!
Не беда страшна, страшно ее ожидание.
Поздно сожалеть, что не следовало идти в Озерные, если провалена явка. Головни, груда бревен горелых, где изба стояла, и на озере плавают косые паруса, звон колоколов раздается: «Го-гонг, клип-понг!»
Выложив перед собой пистолет, Чаплин по-бычьи выставил бугристый лысый лоб, оперся ладонями о стол.
— Фронт ты перешла с сопровождающим. Укокошив часового — земля пухом разине, — вы проточились за линию постов к озеру, где находилась явка, и здесь разошлись… Что? — рявкнул Чаплин, в лампе смигнуло пламя. — Будем молчать или сразу признаемся?
Он орал и топал. Пистолетом совал в лицо.
Чем сильнее бесился, тем более я успокаивалась: это игра. Пока игра. С оглядкой на камана.
— Запираться бесполезно. Твой товарищ; явился к нам с повинной.
Это уж зря. Я поняла: игра, больше пока ничего. Незачем перегибать: треснет.
Каман отставил бутылку. Его заело. Его подмывало самого взяться за допрос. Он клюнул. Клюнул на живца, подброшенного Чаплиным. Только живцом была я, в этом все дело.
Они перекинулись несколькими словами не по-русски. Чаплин кликнул денщика.
Принесли поесть. Щи были горячие.
— Разденься. Ну? — Каман показывал неровные, выступавшие вперед зубы. Улыбался добродушно, качал ногой, обутой в ботинок с крагами. — Будь как дома. Ну, будь, будь.
Я опустила на плечи платок.
— Спасибочко, господин хороший. А то они не верят, — взглянула я на Чаплина: насупясь туча тучей, восседал кавторанг и ковырял в зубах спичкой.
— Косы, — не усидел каман, встал и косу мою потрогал. — О, косычки… Я правильно говору?
И он играет. Нарочно коверкает выговор, я это чувствую. Друг перед другом они выставляются.
— Как тебя звать, косычка?
— Огаркова. Огаркова Екатерина.
— Запишем! — каман почиркал в блокноте и откинулся на спинку стула. — Ты кушай, косычка. Плотно кушай.
Взял он кочергу и стал ворошить в печке горячие уголья. Жаром от лежанки пышет, кочерга раскалилась. Каман улыбался, переводя взгляд с кочерги на меня, и достиг своего: я отложила ложку. Глаз не могла оторвать от раскаленного железа. Пытать будут!
— Что, аппетит пропадал?
Френч у него цвета мхов раменских. Неужто мне вновь предстоит Темная Рамень?
Нет со мной корешка одолень-травы: сапогом на него наступили, с полу поднять не позволили…
— Жарко у вас.
Я попыталась улыбнуться. По спине тек пот, и я не могла оторваться от красной раскаленной кочерги.
— Ты разденьсь. Ну?
Я сняла жакетку.
— Далше, далше! — каман казал широкие зубы, совиные глаза скользко блестели. — Ты, как в бане. Ну? Совсем-совсем… Ну? Я тебе помогай?
Обыск? Всю обыскивать станут?
— Как тебя звать? Лючче думай!
— Огаркова Катя…
Пропуск в кофте. Я о нем забыла… Будто я о нем забыла, найдут его, и там мне будет на руку.
— Вспомни! — Карандаш хрустнул в пальцах камана. — Хорошо вспомни, Чернявушка! Я правильно говорю кличку?
Я в одной рубашонке, босая, холодят половицы, в окнах мечется метель, а кочерга алая, раскаленная, и рубашонка прилипает к спине.
— Квашня, Пахолков, Петрович… А Олга Сергевна, ты вспомнила? Что молчишь, ум зашибла? Ну, поди проклаждайс. На свежу голову лючче думай.
На дворе снег. На дворе ветер. Черный снег и белый ветер. Встретил на крыльце ветер, швырялся колючей пылью, гудел в проводах и стучал застрехами крыш.
— Иди. Проклаждайс!
Лети, ветер, в Раменье, скажи, чтоб не ждали.
Навьюжило снега по колено. Он черный, зги не видать, и тонут в нем, смутно проступая, дома, телеграфные столбы.
Потную, босую, чуть не голышом — на снег, на ветер. Ничего… Я вынесу. Лебеди вот как? Плавали: «Клип-понг… Го-гонг!» А в озере звезды отражались, луна из омутов вычерпывала темную глубь, заменяя ее зеленым зыбким светом… Стужа грянула. Неужто лебеди всё на озере, неужто не улетели?
Ветер — белый от поднятой снежной колючей пыли. Снег — черный, потому что тьма кромешная, в домах ни огонька, и гудят провода.
Первый круг. Второй — по суметам возле дома.
— На свежу голову лючче думай!
Под босыми ступнями хрустит снег. На рубашонке выступил иней, смерзлась, царапает тело.
Со стужи — в спертую духоту натопленной горницы, и руки-ноги взяло резать, как тупыми ножами.
— …Я Катя! Катерина Огаркова… Искала хлеб…
— Это что?
Ручеек был жив одной струйкой бегучей. Журчал, лепетал, омуты наливал: сплошь в омутах лилии-кувшинки, сплошь одолень-трава.
— Это вещественный пароль? Ты шел к Тамаре Митровановна? Ну, лючче думай!
Опять ветер, опять снег.
И снова духота горницы…
«Это — пароль?» — кричали стены и раскаленные угли в печке-лежанке, лампа с абажуром и божница с иконами.
Откуда-то возникла женщина в растерзанном платье, с кровоподтеками на лице.
— Ты к ней шел?
Из черного снега, из белых ветров стонут лебеди: «Ко-гонг! Клип-понг!»
Глава XXIV
Фунт хлеба

Гоняли на работы. Раз на аэродром, потом заладили в порт. Тянулись колонны, пронизывал холод до костей, поземка подкатывала под ноги, кусая злой собакой. У причалов транспорты полоскали по ветру крестатые английские, полосатые французские и звездно-полосатые американские флаги. Лебедки шипели паром, ухали и скрежетали, опуская в ненасытное чрево трюмов тюки льна и пушнины, пачки досок, бочки смолы.
После дня, проведенного на промозглой ноябрьской стуже, сырые камеры казались уютными.
Чего уж, привык я к двухъярусным нарам, к зарешеченному окну.
— Лови, шкет, — Шестерка, не глядя, швырнул из дверей узелок: я едва успел подхватить его, упал бы в парашу.
Карла косая, не мог в руки отдать? Измываются над нами кому не лень. Мы не люди, мы — быдло.
Я держал узелок. Передача? Мне?
В тряпицу завернут хлеб. Белый, пресный и безвкусный, какой пекут в городе из заморской муки.
Прекрасный, чудный хлеб! Он ссохся, подзаплесневел. Долго провалялся где-то, прежде чем попасть ко мне.
Целая пайка. Фунт — тютелька в тютельку, маленький довесок и тот приложен.
Гена — кто ж еще меня вспомнит? Парнишка со Смольного Буяна говаривал: «Кабы большевику, последний фунт хлеба отдал».