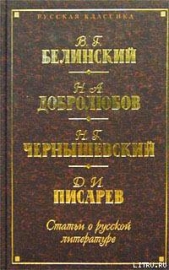«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
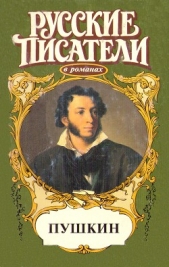
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Представить было можно, но, передёрнув плечами, он отложил — пустое...
Одесса вспоминалась и представлялась летней, задыхающейся от зноя, тонущей в полуденном мареве. Одесса представлялась тёплым чмоканьем моря в камнях, вонью припортовых улочек, бесцеремонным шумом театральных разъездов.
С ним поступили бесчестно: неизвестно чьими стараниями, но упекли сюда, в Михайловское. В родовую вотчину, как можно было бы сказать себе в утешение. Над родовой вотчиной как бы кто-то опустил огромный полупрозрачный стакан, он задыхался от тишины и неизвестности, писал стихи о любви и о нелюбви — тоже. Одно стихотворение называлось: «Коварность», вот вторая его половина:
Это была картина того, во что вылились отношения с Александром Раевским, старшим сыном генерала. Осознавать такое было мучительно. Александр долго был как будто другом. Или всего-навсего — умным собеседником? Вечным оппонентом, хотя игру страстей он к тому времени тоже постиг и тоже убедился в неотвязчивой силе людской злобы и зависти. Однако сомнение в достоинствах рода человеческого у Раевского было уж слишком разъедающим. Пушкин несколько раз ловил себя на том, что после вечера, проведённого вместе, отирал лицо, будто рукой снимал паутину. Одной своей улыбкой, даже без слов, Александр ставил под сомнение решительно всё: садился, высоко закинув ногу, перехватив её у щиколотки, и принимался доказывать, каждый раз подкрепляясь новыми примерами, что миром движет себялюбие, не больше. «Мы все глядим в Наполеоны, да Фортуна, мой ангел, взглядывает не на всех с тем расположением. — Лицо в странных, ранних морщинах кривилось. — И ты, Пушкин, не больше ли жизни самой любишь славу?» «Славу?» — переспрашивал Пушкин, не возражая. «Да, и в самой любви...»
Нет, это была неправда: в любви он жаждал любви, а вовсе не огласки...
Женщины оказывались особенно плохи, попав на язык Раевскому. Он не щадил никого, даже сестру. Выскочила за генерала единственно из тщеславия, между тем как все женщины, даже самые блестящие, способны быть только тенью. Вот каламбур! «И Элиза?» «А что ж — Элиза? Дай срок, увидишь!»
Может быть, теперь, когда он сидит в Михайловском, срок настал? И Александр Раевский, сам влюблённый в Елизавету Ксаверьевну Воронцову, наконец одержал победу над её снисходительным сердцем? Думать об этом было почти невозможно...
Пушкин глядел в давно полученное и много раз читанное письмо, строки бежали легко, изящно из шумного города Одессы прямо сюда, в михайловскую избу. По этим строкам совершенно невозможно было отгадать, надолго ли станет того чувства, какое диктовало письмо?
Опустив листок в руке между остро поднятыми коленями, он задумался... Престранная это была игра: под вой метели воображать их там, на юге... Иногда, в минуты особенно злого отчаяния, перед ним на заледеневших стёклах и довольно достоверно вырисовывался волчий профиль Воронцова, иногда кудри Элизы, поднятые в замысловатую причёску... Сейчас Пушкин выбрал и долго держал перед глазами тот вечер, когда он понял: Александр Раевский настраивает — и коварно! — против него Воронцова, именно затем, чтоб его убрали из города, чтоб Елизавета Ксаверьевна — чем чёрт не шутит! — вспоминала давнюю свою благосклонность...
...Они с Александром стояли тогда на берегу, поспорив, под чьим же флагом идёт в гавань корабль. Час был предзакатный, розовое жидкое золото разлилось на полморя. Парусник поднимался из-за горизонта, плыл стремительно, окрылённый всеми парусами. Он становился всё наряднее, всё одушевлённее. И так продолжалось до тех пор, пока глазам не открылась грязная обшивка, бочки на палубе, обезьянья суета оборванных матросов, а также отнюдь не девственная белизна парусов.
Раевский, близоруко щуря глаза, утверждал, что Элиза, несмотря на снисходительную доброту сердца, любить вовсе не способна. Что жизнь её украшают, а также разнообразят победы и — только.
Он не верил Раевскому, но вдруг почувствовал ужас. Настала минута, он потерял слух, смотрел на шевелящиеся губы друга, на глаза, сквозь улыбку холодно рассматривающие его.
Ужас был не тот весёлый, какой он испытывал, приближаясь, бывало, к барьеру. Этот не заострял, а цепенил душу. Потому что был не перед опасностью, может быть даже смертельной, а перед чем-то с дружбой, да и просто с понятиями чести несовместимым... Он тогда точно понял, что предан. Не из слов определённых — их не было. А из каких-то вдруг сложившихся мелочей понял: Александр сделал то, что потом определилось строчкой: сонного врагу предал со смехом.
...Колокольчика не было слышно ни сегодня с утра, ни вчера, ни ранее... В девичьей пели девушки; как и полагалось, трещала лучина; ворчала няня, а тоже принималась выводить грустное неверным старческим голосом; жужжала прялка; быстрой пробежкой по коридору то удалялись, то приближались чьи-то шаги — тишина оставалась непроницаемой, островной.
Он лежал в кровати до обеда, а обедал поздно — писал. Листки падали на пол, возле кровати; что ж, он, пожалуй, был свободен, пока с ним оставался его дар. Можно было, правда, сойти с ума, спиться, начав с няниной бражки и наливок, жениться на ком-нибудь из соседских барышень. Можно было также просить о царской милости, падать в ноги, пусть не в прямом, в фигуральном смысле: «припадать к стопам».
Припадать не представлялось возможным. Царь поступил по отношению к нему бесчестно, он не любил царя. Но сколько могла продолжаться эта жизнь без событий? Вот уж тут воистину он был брошен забвенью. Такова открывалась истинная цель Августа...
...Назавтра колокольчик послышался внезапно: дальний, заливистый, стремительно приближающийся. О чём он подумал тогда? Какое предчувствие толкнуло — выскочить на крыльцо как был в постели, то есть в рубашке одной и босиком?
Кони ворвались в приотворенные ворота и застряли в сугробе. Пар валил от коней, фыркая, поводя боками, они косили лилово-красные глаза, засматривая на него. Словно коням передалось нетерпение и любопытство седока.
Высокий человек в тяжёлой шубе пробирался к крыльцу, поднявшиеся снежинки не давали разглядеть его сразу.
— Пушкин!
— Жанно! Пущин! [82] — Он крикнул так, и сейчас же стало ясно: именно Пущина ждал сюда, если вообще разрешал себе кого-нибудь ждать.
Пущин схватил его в охапку и внёс, почти голого, в тёплые сени. А что было дальше, мы ещё с младших классов знаем по запискам Ивана Ивановича Пущина, да и по картине художника Ге. Правда, на картине всё благополучнее, что ли. И комната больше, наряднее, и никакой тоской не веет сквозь радость встречи двух лицейских товарищей. И няня — сама умиротворённость.
Иван Иванович Пущин привёз другу грибоедовскую комедию, идёт чтение — все довольны. Пушкин на этой картине — автор послания «К Чаадаеву», «Вещего Олега» и «Зимнего вечера» (хотя стихотворение ещё не написано), такая эта картина хрестоматийная, такая простодушная. И нет ощущения бесприютности, заброшенности, нет тех непроходимых снегов, нет города молодости Петербурга, до которого никакая тройка не домчит, хоть — рукой подать. Запрещено. Нет города Одессы, и как будто вовсе нет и не бывало Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой и самого всесильного графа. А тем более Александра Раевского, да и вечера накануне, когда ему показалось: ни любви, ни дружбы и вправду не ищи на свете, мир своекорыстен и узок. Накануне приезда Пущина он чувствовал горечь ещё, кроме всего, и чисто физическую: грозила разлиться желчь. Накануне приезда Пущина у него руки немели от бешенства, когда он, глядя в притворенную печь, вдруг увидел себя и Александра в гавани и плывущий на них этот великолепный корабль — олицетворение свободы и гордости, как ему показалось. Только потом подумал о зависимости его от ветра и, как ни странно, от стараний маленьких фигурок, бросавшихся на ванты, точно на приступ крепостных стен, и принуждённо бодро делавших свою работу.