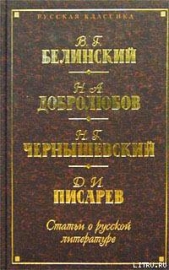«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
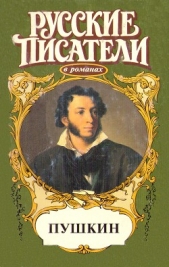
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вигель, Инзов, эти доброжелатели Пушкина, что они? Он отмёл их движением руки, сам не заметив того. Месть его готовилась не им, но самому поэту. Письма Нессельроде должны были сделать своё дело, он всегда помнил, что сам царь в некотором роде был оскорблён этим вертопрахом, вменившим себе в правило вседозволенность. Граф пожевал губами, произнося это слово почти беззвучно, но на разные лады. Может быть, на разных языках... Да, именно так: вседозволенность... Хотя, потребуй кто-нибудь у него объяснения, вряд ли сумел бы он что называется сформулировать: в чём же, собственно, обвиняется Пушкин? Эпиграмм на себя граф, надо думать, не знал, не то бы одной сухостью и выговорами по службе он не ограничился. Ещё впереди была история с саранчой, с теми приплясывающими стишками («Саранча летела, летела и села; сидела, сидела, всё съела, всё съела, и вновь улетела»), которые тоже вряд ли стали известны генерал-губернатору. Так что напрасно уверяли нас в школе, будто верный духу свободолюбия и противоречия Пушкин вручил их кому надлежало в канцелярии графа вместо отчёта...
Вместо отчёта он, скорее всего, вручил просьбу об отставке, о которой думал всю бессонную ночь, после Того как паруса «Успеха» окончательно исчезли за горизонтом.
...Однако самого главного в своей истории с Воронцовым он не знал. И до смерти не подозревал о том, что просьбами убрать Пушкина из Одессы Воронцов с ранней весны буквально забрасывал Нессельроде. А тот о Пушкине должен был доложить царю, в каких красках — Воронцов подсказывал. И ни в коем случае не пускать в Кишинёв к Инзову! Там — та же толпа, те же поклонники и опасная близость к Одессе.
«Никоим образом я не приношу жалоб на Пушкина» — так в духе привычного лицемерия начинается одно письмо. А дальше внушается мысль: «Удалить его отсюда — значит оказать ему истинную услугу.
Если бы он был перемещён в какую-нибудь другую губернию, он нашёл бы для себя среду менее опасную и больше досуга для занятий». Это писалось ещё в марте 24-го года.
8 апреля Воронцов пишет Н. М. Лонгинову [75]: «...я писал к гр. Нессельроде, прося, чтобы меня избавили от поэта Пушкина. На теперешнее поведение его я жаловаться не могу, и, сколько слышу, он в разговорах гораздо скромнее, нежели был прежде, но, первое, ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лености, другое — таскается с молодыми людьми, которые умножают самолюбие его, коего и без того он имеет много; он думает, что он уже великий стихотворец, и не воображает, что надо бы ему ещё долго почитать и поучиться прежде, нежели точно будет человек отличный. В Одессе много разного сорта людей, с коими этакая молодёжь охотно водится, и, желая добра самому Пушкину, я прошу, чтоб его перевели в другое место, где бы он имел больше времени и больше возможности заниматься, и я буду очень рад не иметь его в Одессе».
V
К Вере Фёдоровне Вяземской Пушкин пришёл на следующий день [76], прямо с утра. Стояла сухая, даже грозно сухая половина июня. Облака собирались над жаждущей землёй, донца их темно и тяжело наливались влагой, на раскалённую землю падало несколько капель, заворачиваясь в пыль, они тут же высыхали. А облака, так и не сгустившись в тучи, плыли над морем к берегу, и он смотрел им вслед с совершенно непонятной надеждой. Возможно, ему представлялось: какое-нибудь внезапно превратится в паруса возвращающегося неизвестно по какому случаю корабля. Но «Успех» не мог возвратиться, земли были куплены, предстояла закладка огромного дворца, достойного четы Воронцовых...
В комнаты, которые занимала княгиня с детьми и прислугой, Пушкин вошёл тихим и мрачным. Лицо его явно носило следы той нелёгкой мысли, с какою он не мог расстаться добрых полночи, а первые слова были такие:
— Меня тошнит с досады. Право, княгиня, на что ни взгляну, кругом такая гадость, такая подлость, глаза бы закрыть и бежать, хоть за море. Вот только тросточку с собою взять — ив Константинополь на прогулку.
— Неужели нет ничего достойного расположения на этом берегу? — Вера Фёдоровна посмотрела на него, взгляд её был лукав.
Ему было не до её лукавства. Ответил серьёзно, даже мрачно:
— Как не быть, душа великодушная. Как не быть? Вот на вас смотрю — радуюсь. Морали, почти что родственник мой по крови своей африканской [77], третьего дня отбыл, что печально. Этот корсар всегда представлялся мне честным человеком, уж не знаю почему. Правда, телом чёрен, да не о теле ведь речь?
Он уселся в кресло не обычным своим лёгким, сохранившим почти детскую живость движением. Казалось, за два последние дня он постарел на десять лет.
— Что-то затевается, княгиня. А я за собой греха не знаю.
— Вы заблуждаетесь, Александр Сергеевич. Граф обладает чертами, решительно ставящими его в разряд самых широких натур. Он неспособен к мелочному недоброжелательству.
Смешно, но и ему в первые месяцы пребывания в Одессе граф представлялся натурой в первую очередь широкой. Возможно, в тот вечер, когда обсуждали поездку в Крым, где только что были куплены земли, генерал-губернатор и в самом деле был широк?
Это было счастливое время, прежде всего для него, графа Воронцова. Только что он получил высокое назначение, что свидетельствовало: наконец признаны его недюжинные способности администратора и экономиста. А до того он был некоторым образом в опале, без употребления, в положении, когда собственная энергия томит, разъедает душу. И вдруг — отпустило. Он был ещё не стар, в расцвете своих возможностей, получил в руки долгожданную, почти не контролируемую (хотя бы за дальностью расстояния) власть и хотел употребить её во благо себе и вверенному краю. То, что сделает он этой властью, должно было обеспечить ему славу и при жизни, и потом...
Пушкин рассматривался им как молодой человек, которому можно, даже следует покровительствовать. Это напомнит обществу: сам граф не только пользуется славой либерала, но и есть либерал. Такой взгляд обеспечивал ему симпатии определённых кругов.
Как быстро всё изменилось! И вот Пушкин мрачный сидел перед Верой Фёдоровной Вяземской и продолжал:
— Надобно идти в отставку, а там — хоть трава не расти! То-то заживу барином в Одессе на своих хлебах. — Тут они оба усмехнулись, представляя скудность этих хлебов. — Независимость! Слово обыкновенное, а многого стоит. Всего стоит, княгиня.
— Может быть, ещё образуется, Александр Сергеевич?
— Во владениях лорда Мидаса ничего хорошего для меня не может образоваться. Я карабкаюсь, а меня пытаются утопить завистью, доносом, хуже — клеветой...
А ведь говоря это, Пушкин не подозревал, повторяю, о письмах Воронцова к услужливому Карлу Васильевичу Нессельроде, в свою очередь не без выгоды пользовавшемуся услугами графа. Имел в виду только доносящих Воронцову...
Они помолчали некоторое время, прислушиваясь к шуму с улицы и топоту детских ног в соседней комнате. Жёлтый свет цедился сквозь густые листья акаций, всё было мирно, даже слегка сонно в предчувствии издали надвигавшейся грозы.
— Но может быть, всё-таки. — Женщине хотелось и себя убедить...
— Нет и нет, княгиня, душа великодушная. У него — сила, которая дубы ломит. Тростник, правда, иногда умудряется устоять. Но как скучно гнуться...
Княгиня вопросительно и с нежностью глянула в его лицо, уж больно тонко протянул он своё: ску-у-учно...
— Тоска. Ему ведь нетрудно будет убедить общество и в Петербурге, что я — несносен. А он, напротив, терпелив ужасти как! Впрочем, я давно холоден к пересудам...
...О главном он молчал: о своей любви. Но в их разговорах графиня всегда незримо присутствовала третьей. Накануне вечером, сбивая с дороги гибкие, зацветшие мелким цветом ветки дерезы, он был полон мстительной злобы. Были минуты, когда эта злоба распространялась на саму Элизу Воронцову. Однако, явившись к Вере Фёдоровне, он принёс строки, нежнее и благодарнее которых трудно себе что-нибудь представить.