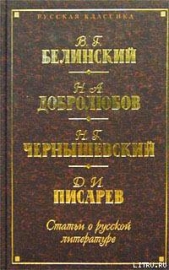«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
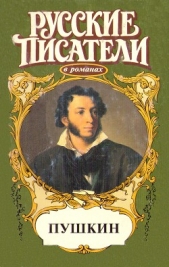
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да полно! И не своей волей он прыть такую выказывает, начальство велит.
— Да кто ж донёс-то? И как быстро обернулся!
— А может быть, он к бутылочке спешил? А твой приезд — предлог, не более? У них там хоть горы и Святые, а тоже вокруг снега и запустение. Плюнем на него — и квит!
— Нет, как быстро! — Пущина по-особому смущала пронырливость монаха. И, уж конечно, не ради одного сегодняшнего случая. Зорко было недреманное око власти предержащей, могло разглядеть чего не следует в деле важном и опасном. В деле Общества...
...Бесспорно: хорош, прекрасен душой и поступками был первый, бесценный друг Пушкина, Иван Иванович Пущин...
А меня всё-таки колет обида. Вот о чём я думаю. Почему всего на один день приехал в Михайловское? Вернее, даже не приехал — завернул. Взял отпуск на 28 дней для свидания с семьёй. В Петербурге навестил отца, несколько дней жил у сестры во Пскове, а оттуда — в Михайловское, благо — рукой подать.
Правда, замысел попасть в Михайловское явился сразу, как узнал, что Пушкин в изгнании. И то правда, что встреченный ещё в Москве Александр Иванович Тургенев удивился смелости Пущина. Пушкин-то не просто в опале, он отмечен непроходящим недоброжелательством Александра I. А ведь А. И. Тургенев был тот самый человек, по чьей протекции Пушкин попал в Лицей. И тот самый, который отвезёт тело Пушкина в Святые Горы хоронить. Да что Тургенев! Дядя поэта, ближайший родственник, стихотворец, Василий Львович не на шутку предупреждал Пущина: опасно. И слезу пролил, растроганный его решимостью. Или скорбя о собственном малодушии? Стоял, встряхивая нежнейший батистовый платок, нетвёрдо попирая паркет благородного собрания...
Как видите, многие считали: нужна смелость, чтоб так запросто к опальному... Пущин действительно был смелый человек, но проверка-то впереди даже ещё не маячила. Шёл январь, события же на Сенатской площади разыграются только в декабре.
И тут я хочу сказать несколько слов о смелости Пушкина. Не успел Иван Иванович Пущин прибыть арестантом в Читинский острог, как случилось следующее. Подозвала его к частоколу Александра Григорьевна Муравьёва [89] и передала через щель между брёвнами сложенный во много раз листок бумаги. А на листке пушкинские строки:
Вот это было смело: написать такие стихи, передать их тому, кому были предназначены, т. е. государственному преступнику, осуждённому по первому разряду.
II
Пушкин оглянулся на прохожего, указавшего ему дом. Тот всё ещё стоял на углу, как бы рассматривая какую диковинку. Пушкин побежал, мещанин хмыкнул: «Лёгкий господин». Между тем только в движениях Пушкина была лёгкость да в плаще, развевающемся на сквознячке пустой улицы. Лицо же собралось в напряжении, то же напряжение стояло в глазах, будто он боялся, что опоздает и не застанет Дельвига не то в его квартире — в Петербурге. А может, вообще — не застанет? Пущин и Кюхельбекер стали недосягаемы: живы, но какая надежда встретиться, броситься в объятья, просидеть до утра в дыму трубок, воспоминаний?
Дельвиг же, слава Богу, здесь, его можно прижать к груди, расцеловать, рассмотреть, растормошить, услышать милый голос, грустное его «забавно», которым он как бы взвешивал далеко не радостные события; увидеть глаза, обращённые к тебе с любовью, со слезой, неизвестно отчего навернувшейся.
Пушкин бежал уже по двору, к дальнему крыльцу, не замечая того, что сам готов к слезам, что редко с ним случалось. А сейчас проняло. Оттого, что всё время, пока ехал на извозчике, и теперь, пока бежал по улице и через двор, он соединял их в мыслях своих: Пущин, Виля и вот — Дельвиг. И ещё он вспоминал себя и их в тех временах, когда в садах Лицея... В голове и сердце в такт бегу коляски, в такт собственному бегу билось: всё минуло. Всё то: лицейское, молодое петербургское, южное, михайловское — минуло. Начиналось новое царство, новая жизнь, именно поэтому надо было скорее обнять Дельвига, старого друга, чтоб ощутить: как ни поворачивает судьба, какие прыжки ни делает жизнь, она одна от детских дней до нынешнего бега по грязноватому, неприметному двору в предчувствии встречи... Царь вывел его из кабинета на общее обозрение со словами: «Это теперь другой Пушкин. Это теперь мой Пушкин». Хотелось верить в то, что новый царь не простил, но понял его. Прощать — за что? Прощают нашкодивших малолеток... Он хотел не прощения, но — понимания.
Как долог был двор, однако! Пушкину даже показалось: он опять спутал адрес, придётся снова бегать, спрашивая жильца Антона Антоновича Дельвига, барона, литератора, весьма и весьма несостоятельного человека, осчастливленного, правда, женитьбой на очаровательной женщине [90].
Но тут дверь на крыльцо отворилась, отдышливо, протягивая вперёд руки, как слепой, как взывающий к спасению бежал ему навстречу Дельвиг. Они встретились, нерасчётливо ударившись друг о друга, и застыли. Они не видели друг друга, из-под зажмуренных век у обоих катились слёзы. Они только ощущали: родство, теплоту, прежнюю привычность объятии.
...На крыльце стояли уже две молодые женщины; увидевши из окна Пушкина, они сбежали по лестнице вслед за Дельвигом. Одна была миловидна и бойка. Её глаза смеялись и смотрели с любопытством, головка в кудрях грациозно и быстро поворачивалась то к одному плечу, то к другому.
Софья Михайловна Дельвиг удивлялась горячности встречи, тому, что друзья целовали друг другу руки и не разнимали их так долго. Потом Пушкин приник, приткнулся к груди её мужа, не отпуская отворотов его сюртука, как будто он был не тот самый Пушкин, а человек, ищущий защиты. Лицо его стало бледно, бледность покрывала также лицо Дельвига, но к этому она привыкла: барон часто бледнел обморочно, словно бы предсмертно, волноваться не стоило, всё обходилось.
Вторая из молодых дам, ждавших на крыльце, любой взгляд привлекла бы светлой и кроткой красотой. Русые волосы, разделённые простым пробором и ничем не прикрытые, были тяжелы, а большие глаза смотрели на Пушкина сияя. И всё же что-то искательное было в этих глазах, какой-то вопрос настойчивый, но робкий.
Оторванный от Дельвига этим взглядом, Пушкин поклонился дамам, и они с бароном, рука в руку, пошли к дому. Два года тому назад Пушкин написал:
Стихи эти относились к Анне Петровне Керн [91], и Анна Петровна Керн, собственной персоной, стояла сейчас перед ним, бесхитростно обрадованная его радостью и всё же чем-то стесняющая душу. Как будто тогда, в Михайловском, в своих стихах он дал клятву на будущее, которую не умел и не хотел нынче выполнить.