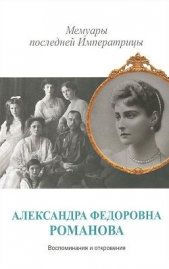Царский угодник. Распутин

Царский угодник. Распутин читать книгу онлайн
Известный писатель-историк Валерий Поволяев в своём романе «Царский угодник» обращается к феномену Распутина, человека, сыгравшего роковую роль в падении царского трона.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стражники так быстро разметали дерущихся, что кое-кто оставил на поляне даже обувь. Кстати, агент полиции наткнулся в лесу на шалаш, в котором находилась влюблённая парочка, эта парочка скрылась настолько стремительно, что женщина даже забыла у шалаша свои ботинки.
Всё провалилось и на этот раз.
Побегом руководил брат Илиодора Аполлон Труфанов.
В октябре — это было вечером шестого числа — отчаявшийся Илиодор остриг себе голову и попросил настоятеля, чтобы тот разрешил ему обменять монашескую рясу на светский костюм. Илиодор был подавлен: глаза воспалены, лицо запаршивело, руки тряслись — с одного взгляда было понятно, что этому человеку надо чинить свои нервы. Илиодор решил, что нужно уходить из монастыря, пока он находится здесь, до Распутина ему не добраться. Никаким обманом. Месть откладывалась, а она была всё равно что горящие уголья в груди, она требовала выхода, действий, немедленного присутствия в Петербурге!
Настоятель отказал Илиодору, и тогда тот решился на крайнюю меру — написал письмо в Синод, в котором отрёкся от веры и Бога. Несколько дней Илиодор проплакал, ожидая ответа.
Священный Синод лишил Илиодора сана. Илиодор собрал свои вещи, которых у него, как, собственно, у всякого монаха, было очень немного, и уехал. Перед отъездом отправил письмо своим приверженцам в Царицын. «Ваш батюшка умер, — со скорбью начертал он на бумаге, — Отречение я подписал собственной кровью, взятой из руки. Вечная истина повелела мне сделать это».
Уехать в Петербург и сквитаться с Распутиным Илиодору — в миру Сергею Труфанову, Илиодор остался уже в прошлом — также не удалось: он был сослан на Дон, в один из пристаничных хуторов, ближе к отцу и брату — Илиодор был из донских, — где поселился у старообрядческого священника.
Полиция тщательно присматривала за ним — избежать этой опеки Илиодору не удалось.
Поместье своё Илиодор прозвал Новой Галилеей, дом укрепил, огородил высоким забором, женился на молодой зубастой казачке, развёл кур, взял в аренду землю — выращивал картофель и арбузы и томился. Так худо и скучно было Илиодору в Новой Галилее, что он начал пить.
Несколько раз Илиодор засек стражников у своего забора и послал в полицейское управление письмо, в котором просил не мозолить ему глаза. «Если вам необходимо следить за мною, то вы должны сидеть под забором», — подчеркнул он.
В запоях Илиодор часто вспоминал своё прошлое, Царицын, проповеди и преданных прихожан, перед ним возникали лица — скорбные, укоризненные, жёсткие, самые разные лица, и все знакомые. Илиодор водил рукою по воздуху, пробуя смазать их, убрать, но лица возникали вновь, и Илиодору становилось не по себе. Водку, говорят, он гнал сам — и очень умело — из картошки и зерна, из груш; случалось, что готовил особый коктейль: брал арбуз посочнее, шилом прокалывал у него бок и закачивал туда пол-литра водки, заклеивал. Потом давал арбузу полежать пару дней где-нибудь в прохладном месте.
Получался напиток необыкновенной вкусноты — мягкий, хмельной, розовый — Илиодор одолевал целый арбуз разом, заедал зелье мякотью, а потом, когда мякоть кончалась, ел арбузные корки.
Полиция, видя, что Илиодор ведёт себя как нормальный мужик — пьёт, но не буянит, перестала трогать его, взяла подписку о невыезде и убрала стражников, от которых у Илиодора была изжога — когда он их видел, то обязательно хватался за бутылку либо за арбуз. Напиваясь, Илиодор ложился на пол и бормотал:
— Я отрёкся от Церкви и Христа, как Бога Духа Святого. Я признаю единого первичного Бога, непостижимо родившего чудодейственное семя прекрасного видимого мира. — Язык у него заплетался, едва ворочался во рту, прилипал к нёбу, губы делались алыми, будто он красил их женской помадой, но мысль работала ясно, и вообще в голове светлело от выпивки — Илиодора сбить было трудно, он шёл по накатанному пути, часто повторял эти слова, написанные им в отречении. — В жизнь мира Бог не вмешивается. Отречение я подписал собственной кровью. Вы поняли, гады? — Илиодор приподнимался на полу, оглядывал голые, давно уже не беленные извёсткой стены, кричал: — А ты понял, Гришка? — Взмётывал над собою кулак. — Доберусь я до тебя, Гришка, обязательно доберу-усь! Ремней ведь из тебя нарежу! Отречение я подписал своей кровью, кровью отсюда вот, — он тыкал пальцем в запястье левой руки, — отсюда вот брал!
Однажды из Царицына прибыла группа поклонниц Илиодора — очень боевых, горластых, совсем не похожих на обычных прихожанок, их было человек пятьдесят. Полные сил прихожанки, увидев стражников, лежавших в тени забора — это было до того, как полиция помягчела к Илиодору, — решили освободить своего кумира.
Но в драку с полицией не полезешь, полиция всё равно окажется сильнее, поэтому они купили два десятка лопат и попытались прорыть к дому Илиодора подземный ход.
Об этом узнал Иван Синицын, заметно похолодевший к бывшему иеромонаху, и донёс полиции. Поклонниц Илиодора накрыли вместе с лопатами, ход засыпали.
Но и Синицын вскоре тоже был наказан — Бог наказал, как говорили люди: сытно поужинав, он вдруг схватился за живот и повалился на землю. Долго катался по ней, кричал, потом изо рта у него полезла пена, и Синицына не стало. Почил в Бозе. В медицинском заключении было указано: отравился дохлой рыбой.
А в остальном к Илиодору не было претензий — даже в связи с подкопом, в полиции решили, что влюблённые в красивого Илиодора прихожанки сделали это по собственному разумению, Илиодор здесь ни при чём, — и удивились, когда из Петербурга поступило распоряжение произвести у Илиодора обыск. И не только у Илиодора — у его сторонников тоже.
— Мда-а. Это, видать, в связи с убийством Распутина, — догадались полицейские чины.
Обыски ничего не дали — у Илиодора, кроме пустых бутылок, запаса картошки и арбузов, дарёного белого посоха и тряпок жены, ничего не нашли, у его сторонников — тоже.
Распутин стонал, бредил, пытался перевернуться на бок, и тогда его приходилось держать — у Распутина могло остановиться сердце, хотя и крепкое оно было, но работать беспредельно не могло, оно должно было надсечься. Пульс дрожал, температура почти не опускалась — точнее, опускалась чуть, но тут же ползла вверх, к той критической отметке, когда кровь начинает густеть, врачи провели у постели старца несколько ночей.
Если раньше брал верх осторожный тоболец — он боялся принять грех на свою душу, то теперь тюменцы оттеснили врача с Владимиром на шее и энергично боролись за жизнь «старца».
Была сделана операция. Операция прошла при свете ламп-десятилинеек, наполнивших комнату печным жаром, дышать стало нечем, зажгли все лампы, что были в распутинском доме, ещё три лампы взяли у соседей. Завершилась операция успешно. Теперь из Распутина надо было постоянно выгребать гной. Неприятное это дело, но тюменцы не морщились, орудовали слаженно и чётко.
Были минуты, когда Распутин с хрипом выбивал из себя знакомые имена: «Пуришкевич... Саблер... Маклаков... Илиодор», потом вдруг всхлипывал со слезою и звал к себе дочь.
— Матрёша! — дрожал в воздухе слабый распутинский оклик, и, отзываясь на него, в глубине огромной избы билась в полувое-полуплаче любимая дочь, рвалась в дверь комнаты, в которой лежал отец, мячиком отлетала обратно и снова на полном бегу врубалась в дверь.
— Папанечка!
Врачи дверь Матрёне не открывали: прежде чем её допустить к отцу, надо было основательно обработать, убрать микробы, проспиртовать — дочка Распутина чистотой не отличалась, но зато отличалась другим — любовью к отцу.
— Пуришкевич, Пуришкевич, — стонал Распутин, облизывая языком сухие твёрдые губы, — что же ты, а?
— Государственная дума в полном составе, — усмехался тобольский профессор, — Пуришкевич, Маклаков... Глядишь, и тайну какую-нибудь узнаем. А зачем она нам?
Тюменские врачи молчали, их коллега, прискакавший в Покровское первым, не выдержал, гневно выпрямился. Но говорить тоже ничего не говорил.