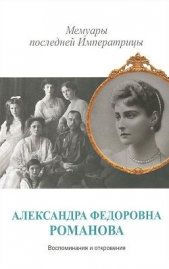Царский угодник. Распутин

Царский угодник. Распутин читать книгу онлайн
Известный писатель-историк Валерий Поволяев в своём романе «Царский угодник» обращается к феномену Распутина, человека, сыгравшего роковую роль в падении царского трона.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из груди его доносился слабый затухающий хрип — похоже, в Распутине всё уже отказало, кроме сердца, только сердце, жилистое, мускулистое, сильное, не хотело сдаваться, гоняло беспрестанно кровь, боролось, требовало жизни — не хотело останавливаться, и Распутин хрипел, зажимал зубами язык, до крови кусал тёмные тонкие губы и не умирал — он никак не мог умереть, рад был бы умереть, но не мог...
Толпа, наводнившая Покровское, прослышав, что Феония Гусева содержится в обычной «холодной» — закутке, куда сажали провинившихся по-мелкому мужиков, должников и крикунов, с долгим мстительным воем кинулась туда, чтобы свести счёты с «порушительницей», но была отбита конными стражниками — хорошо, что они прибыли вовремя, задержись они на пару часов и не окажись у дома старосты, Феонию просто бы разодрали на части, втоптали, вбили бы по косточке в землю.
Стражники арестовали девять человек наиболее крикливых и буйных, загнали их в пустую избу, в которой коротала свои последние годы одинокая бабка. Скоротав, она ушла на покой, и изба опустела, сделалась холодной, и сразу в ней запахло свалкой, плесенью — нежилой дух быстро изгоняет из домов дух жилой. На крыльцо посадили двух полицейских с револьверами и саблями — охранять буйную компанию, но компания оказалась не буйной, совсем напротив — очень скоро она взвыла от страха.
В пустом доме том что-то посвистывало, шевелилось, в воздухе носились тени — будто жили, веселились летучие мыши, но мыши не были видны, пол скрипел и прогибался сам по себе, хотя по нему никто не ходил, из-за стен доносились глухие голоса, шёпот, а на холодной, припахивающей гнилью печке мокрел крест. Прямо на известковом печном боку, словно бы проступая из кирпича, из глубины, из стылого нутра, искрилась свежая роса, пот. В виде аккуратного креста. Извёстка в этом месте сделалась иссиня-тёмной, вздулась больной коростой, но не облетела, не облупилась — держалась.
Когда арестованные разглядели этот крест, то в страхе отползли от печи подальше, к двери, потом начали долбить в дверь кулаками — уж больно тюрьма их оказалась тёмной, бесовской, связанной с нечистой силой. Явно Распутина хотела уничтожить нечистая сила — в слабое тело Феонии Гусевой поселился чёрт-убийца. Выходит, правы они были, когда хотели уничтожить Гусеву, и не правы стражники...
Тут в избе что-то заухало, засипело, будто огонь в паровозном котле, стены дома дрогнули, и у мужиков зашевелились волосы.
— Выпустите нас отсюда! — заорали они сразу в несколько глоток.
Стражники, сидящие на крыльце, забеспокоились — им тоже стало что-то не по себе: крыльцо начало скрипеть, шататься, словно при землетрясении, горизонт накренился и так, в накренённом состоянии, и застыл — у нечистой силы был суровый характер, она не любила шутить.
— Смерть Хвеонии Гусевой! — прокричал кто-то в пустой избе — один из девяти арестованных, похоже, сошёл с ума.
— Разве так можно? — прошептал кто-то из охранников. — А что скажет господин полицейский исправник?
На допросе Феония Гусева упрямо молчала — стиснув зубы, прижав ладонь ко рту, она лишь мотала головой, отказываясь отвечать. Когда с неё стянули шаль, то люди, которые вели допрос, отшатнулись от Феонии — лицо её было сплошь покрыто болячками, какими-то детскими, золотушными болячками, коростой, на носу тоже сидела большая золотушная блямба.
Следователь с брезгливой миной на лице бросил шаль на пол. Феония спокойно нагнулась, подняла шаль и натянула себе на голову.
— Сейчас я в тебя плюну, — у Феонии неожиданно прорезался сильный, звучный голос, — до конца дней своих будешь лечиться!
Следователь поспешно отодвинулся от Феонии, стал задавать вопросы из угла избы. Феония молчала, она словно бы не слышала вопросов, словно бы не понимала следователя, словно бы не разумела русскую речь, хотя только что говорила, грозила юному, с щегольскими усиками, будто приклеенными к бровастому щекастому лицу, следователю — ведь она действительно могла плюнуть в офицера какой-нибудь заразой, слюной, кишащей микробами, и тогда офицерик этот своё бы имение спустил на лекарства.
Чем была больна Феония, следователь не знал, но на всякий случай старался держаться от неё подальше. И правильно делал. Пощипывая усики, он записал для себя на листе бумаги кое-какие наблюдения — что-то вроде заметок на память...
«Проверить, сколько ей лет. Наверное, около тридцати. Может, чуть больше. Незагорелая кожа, болячки — очень странные болячки! Платье простое, чёрного монашеского цвета, но под простым этим платьем — очень дорогое бельё, которое простолюдины не носят. Отказывается есть и пить — ничего не хочет брать в рот!» Следователь был грешен — пописывал стишки и стремился, чтобы из-под его пера выходили только грамотные тексты, и главное — чтобы они были живыми, поскольку мёртвая полицейская сухомятина уже всем надоела смертельно. Скулы от неё сводит!
Поздно вечером Феония всё-таки раскрыла рот и сказала следователю несколько слов — всего несколько. Вот они, их запечатлели и полицейские протоколы, и перья журналистов: «Так надо! Он — антихрист!»
Когда её увели на ночь в камеру, — если, конечно, помещение временной сельской тюрьмы можно назвать камерой, — это было мрачное, деревянное, тёмное, пахнущее сеном и мышами помещение, — она, став на чурбак, подтянулась к оконцу, врезанному в толстое бревно под самой крышей, попыталась раскачать стекло и вытащить его, но стекло было плотно прижато планками, вытащить его можно было только с помощью стамески и клещей. Феонии оставалось одно — бить стекло.
Она обмотала куском шали руку, надавила на стекло — то было словно железное, не подалось, давить сильнее Феония побоялась — звук разбитого стекла мог привлечь стражников.
Надо было ждать. Обычно Покровское по вечерам было селом тихим и тёмным — в темноте себя обозначали лишь собаки. Люди предпочитали пораньше лечь спать — в домах свет не горел, да и слава у здешних мест была не самой лучшей, — но сейчас Покровское не было похоже на знакомое всем Покровское, в нём снова начал шуметь-волноваться народ.
Толпа, в которой теперь были уже не только пришлые, но и местные, в основном молодёжь, перемещалась с места на место, бурлила, галдела, готова была растерзать кого угодно, не только Феонию Гусеву — в воздухе противно попахивало кровью, пеплом, лекарствами, болью.
Когда толпа приблизилась к застенку Феонии, она, затаив в себе дыхание, держа его буквально зубами, решительно ткнула в стекло кулаком, стекло треснуло, вывалилось наружу, в рамке остался лишь один осколок. Феония поспешно выдернула его, прислушалась, стараясь понять, услышал её стражник или нет?
Хоть и галдела толпа, и шум стоял такой, что люди не слышали друг друга, ревели, матерились, проклинали кого-то — всё смешалось, а нечёткий звон разбитого стекла охранник всё же услышал — у него оказался тонкий слух, — затопал ногами, забряцал тяжёлым замком, и Феония, торопясь, полоснула себя осколком по руке, потом провела по шее, сбоку, там, где сквозь кожу проступала очень важная, по её мнению, для жизни жила, потом снова провела по руке, закричала от боли и повалилась на пол.
Охранник быстро справился с замком и распахнул дверь.
— Эй! — позвал он. Керосиновым фонарём осветил лежавшую на полу Феонию.
Человек он был опытный, всё сразу понял, позвал напарника — вдвоём они не дали Феонии умереть. Отняли у неё осколок, который она мертво зажала в руке, припрятали его, чтобы утром с ним познакомился следователь, и для профилактики — чтоб и впредь было неповадно — основательно отругали Феонию. Хотели было на ночь связать руки, но не стали.
А Распутин всё продолжал хрипеть в своём доме — он никак не хотел умирать и этим очень удивлял врачей — маститый профессор из Тобольска сидел на лавке с таким видом, будто ему в сердце выстрелили из дробовика, дырку сделали; тюменские врачи ощущали себя ущербными — стало ясно, что операцию делать надо было: Распутин выдержал бы любую операцию, даже если бы у него остановилось сердце или рассыпался позвоночник, и что операцию делать не поздно даже сейчас — Распутин и её выдержит.