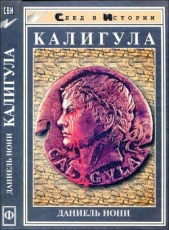Калигула

Калигула читать книгу онлайн
Если Вы полагаете, что герой этой книги настоящее чудовище, которое казнит без разбора правых и виноватых, время проводит в бесконечных оргиях, устраивает своему любимому коню Быстроногому великолепную конюшню непосредственно в Сенате, то Вы ошибаетесь.
Это означает лишь, что Вы неплохо знакомы с официальной историографией. Читали книги, смотрели фильмы о третьем императоре Рима, Гае Августе Цезаре Германике. И имеете о нем свое представление; с нашей точки зрения, глубоко неверное.
Авторы романа «Калигула», Фурсин О.П., Какабадзе М.О., приносят Вам свои искренние извинения. Ничего этого в книге, которая перед Вами, нет.
Зато есть в ней Тевтобургский лес, в котором малыш Калигула переживает глубочайшую трагедию своего народа. Есть арены, на которых будущий цезарь рискует жизнью, сражаясь с собственной трусостью. Есть его непролитые слезы о семье, которую уничтожили: отец отравлен, мать и братья уморены голодом или предпочли нож позорной казни. Есть трагедия человека, который тяжко болен. Есть его любовь, неразделенная, но при этом обоюдная; не спрашивайте, как это возможно, читайте! Есть знаменитый «удар Германика», которым убивает цезарь. Есть любовь к Риму, есть великие дела, которые свершены во славу отечества. Есть все, чтобы понять: это была короткая, трудная, но яркая жизнь, от колыбели до последнего удара мечом. История принца датского в сравнении с реальной историей Калигулы — просто веселый водевиль. И после смерти императору не довелось обрести покой; его оболгали. Кто и зачем это сделал? Обо всем этом — на страницах книги…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, ладно, ладно, ты-то ведь не громовержец, однако, сумел кое-чего добиться! Не надо выставлять меня старым скупердяем, я не повинен в щедрости, это правда, но и не привязан к деньгам насмерть…
— И все-таки, раз уж мне довелось узнать, что талант твой безграничен, нельзя ли убедиться в его силе, юноша? — обратился к Луцию Агриппа. — Это должно быть чем-то великим, раз уж дядя твой уличен в раздаче денег…
— Здесь?
В голосе Луция чувствовалось непритворное удивление. Негодование.
— В этом хлеву, для этих скотоподобных лиц? Мне — петь — здесь?
Угрожающее ворчание на противоположной стороне стола, ропот. Все, как на грех, хорошо расслышали слова «хлев», «скотоподобные». Не стоит дразнить квартал дурных страстей. Можно нарваться на неприятности в квартале.
Но Агриппа был на высоте. В истории своего времени (а он удостоился письменной памяти потомков) он остался человеком, отмеченным несомненным даром дипломатии. Таким он был и в жизни. Ничего удивительного, ведь людские характеры не есть четко разделенные присущие им черты в отдельных видах деятельности. Но совокупность черт, проявляемых ими каждый день в самых разных обстоятельствах. Ведь вжилах Агриппы текла кровь и Ирода, и кровь Хасмонеев [115]. Энергию и находчивость он унаследовал от первого, личное обаяние от вторых.
— Ну-ну, эти славные люди, конечно, не разодеты в блестящие тряпки. Я бы даже сказал, они вовсе раздеты… Улыбка Агриппы, посланная бородачам, была обезоруживающей, предельно дружеской, при этом назвать ее заискивающей никак нельзя было.
— Однако, юноша, кто сказал, что достоинство должно быть облечено в материю? Оно живет в сердце…
Обежав глазами круг людей на противоположной стороне стола, Агриппа добавил:
— Если мне не изменяет внутреннее чувство, я вижу здесь старого солдата, не раз проливавшего кровь во славу Рима… Матросов с римских кораблей, не так ли, чьи лица задубели от соли и ветра… Кто бы вы ни были, жители великого Рима, я приветствую вас! Я вас люблю!
Юноше, которому предложили спеть для «сброда», ничего иного не оставалось. Никакой любви к согражданам, по крайней мере, к этим, он не испытывал. Но зато успел отметить благодетельное влияние слов Агриппы на лица. Брови разгладились, губы растянулись в улыбках. А ведь несколько мгновений тому назад в воздухе повисло нечто, вызванное его словами. Нечто, что успело его напугать до дрожи. Он действительно был трусом. Он действительно успел пожалеть о сказанном…
Впрочем, не один только страх побуждал его петь. Он родился артистом, и неуемная жажда признания жила в нем. Луций бросил взгляд на молодого человека, с которым он сюда явился, и дружбу с которым подчеркивал все это время. Они без конца перешептывались, оглядывая круг лиц за столом, обменивались впечатлениями, посмеивались, морщились, отведав непритязательную еду, предложенную им хозяйкой, чуть ли не за руки держались. Утвердительный кивок был ему ответом. Друг предлагал ему спеть. Певец тут же принял компромиссное решение — будет выступать для своего товарища, а это все меняет. Он обратился к флейтисту, сказал ему несколько слов.
Удивительно, как преображает талант человеческие лица. Вот сидел в заведении римлянин из знатных. Мелкий человек, чья родовитость, впрочем, не позволяла ему окончательно затеряться в толпе — мало ли в толпе трусов, бездельников, дураков?
А встал во весь рост, готовясь петь, совсем другой. Светилось его лицо вдохновением. Грусть, понимание, рожденное проникновенной этой грустью, отобразились на нем. Откуда что взялось — и поволока в глазах, и яркий румянец вспыхнувших огнем щек. Певец выставил руку вперед, словно протянул навстречу к звукам флейты, что возникали в воздухе тесной комнатушки, повисали на несколько мгновений, и гасли, таяли в дымном чаду печи…
Голос был из тех, которые зовут «божественным». Чудо, истинное чудо! Две складочки гортани, чья вибрация рождает такой звук, они ведь одни на несколько тысяч подобных, а если присовокупить к ним абсолютный слух, то такое сочетание становится весьма редким и потому бесценным. Голос лился, струился в воздухе, заполнял собою все. От сердец, рвавшихся навстречу, до нелепых хозяйских горшков, стоящих в углу у печи. Мощь его была удивительной. Казалось, он выплеснулся наружу, затопил улицы. Заставил замолчать тревожную Субуру, затихнуть беспокойный Аргилет, и, напротив, разбудил тишину на спящем ночном Форуме. И при этом, при всей своей мощи, голос оставался проникновенно нежным. Пошлое сравнение «сладкий», но ведь и оно применимо, когда не хватает слов. Трудно выразить чувство, возникающее в глубине тела от переливов великолепного голоса. Взлетаешь с ним на самую вершину, а потом летишь вниз, на равнину, с ужасным и захватывающим ощущением падения, зная, что не разобьешься…
Вскочив на ноги, ухватив себя в волнении за выбритый подбородок, внимал пению Агриппа. Давешний Фебов бородач, напротив, мял бороду, тащил ее книзу, терзал, не зная зачем. Сам Феб, сброшенный посетителями на пол, давно уже спал, будучи мертвецки пьян. Но и он проснулся, зашевелился, потянулся за голосом. Но нет, уронил вновь голову, захрапел… Донельзя раздраженный храпом, толкнул его ногою дюжий молодец, сын хозяйки, заставив замолчать. Не сочетались звуки храпа и сладкая боль в душе парня, вызванная пением. Он слушал певца и единственное воспоминание, достойное этого пения, возникало в душе, раня и тревожа. Год назад довелось побывать парню в богатом доме, возле Курии. Видел он мельком сенаторскую дочь. В розовой столе. Волосы рыжие роскошные подняты высоко, закреплены на затылке. Глаза зеленые, глубокие. Она соизволила спросить у него что-то по поводу рыбы, которую он принес в сенаторский дом. Он слышал и как будто понимал слова, но не дал ответа. Она говорила иначе, то был язык Рима, но он его не знал почему-то. И вот сейчас, слыша пение, он снова ощущал это, непонятное, тревожное. Родной вроде язык, и знакомый лад, но он этим языком не владеет. Было сладко, и при этом больно почему-то. И парень снова пихнул ногой ни в чем не повинного Феба…
На лице Афра застыла горькая ухмылка. Она говорила: «Ну что, старина, знал ведь ты, знал, что тебя и тут обставят. Так было всегда. Видно, ты был недостаточно силен и храбр на поле боя, чтоб стать императорским ветераном… Недостаточно хитер, чтоб выбиться из рядов своего брата, да стать хоть никаким начальником… Недостаточно красив и статен, чтоб жениться на римлянке с деньгами. А вот и здесь тебе всего недостаточно, и петь-то ты не умеешь…»
Обуреваемые множеством чувств посетители не обратили внимания на скользнувшего тенью в заведение молодого человека. Натянутая по самые глаза шапка возницы, легкая туника на теле, весьма заношенная, обувь наподобие греческих сандалий. На поясе короткий кинжал. Лицо заляпано какой-то грязью, словно его обладатель наносил ее сам, размазывая. Такое случалось, не всякий в квартале любил пообщаться. Не каждый хотел быть узнанным…
Не присаживаясь к столу, он прилег в углу, на ворохе какого-то тряпья. И такое случалось, ночевали у сирийки люди. Весьма странные люди, у которых не спрашивала она имен, которым не заглядывала в лицо. Пришли, пересидели ночь, ушли. Всех она видела, всех замечала, хотя бы и слезы выступали на глазах от умиления. Она единственная обратила внимание на нового своего посетителя, слившегося со стенкой в углу.
Незнакомец махнул рукой сирийке, призывая. Она, утирая слезы уголком попавшейся под руки тряпки свои подведенные углем, и без того удлиненные глаза, подошла. Кивнула головой, выслушав заказ. Донесла в угол еду, высыпала на полы туники пирожки, сунула парню в руки чашу с вином. Присела на край скамьи, рядом со стоящим Агриппой — слушать. Тот, казалось, не возражал, напротив, опустил руку на плечо женщины, стал гладить, сам того не замечая.
Час ли прошел, два? В заведении Афра никто не считал мгновений, люди плыли по волнам памяти, направляемые необыкновенным голосом, и никому не было дела до течения времени…