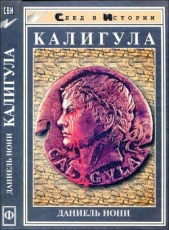Калигула

Калигула читать книгу онлайн
Если Вы полагаете, что герой этой книги настоящее чудовище, которое казнит без разбора правых и виноватых, время проводит в бесконечных оргиях, устраивает своему любимому коню Быстроногому великолепную конюшню непосредственно в Сенате, то Вы ошибаетесь.
Это означает лишь, что Вы неплохо знакомы с официальной историографией. Читали книги, смотрели фильмы о третьем императоре Рима, Гае Августе Цезаре Германике. И имеете о нем свое представление; с нашей точки зрения, глубоко неверное.
Авторы романа «Калигула», Фурсин О.П., Какабадзе М.О., приносят Вам свои искренние извинения. Ничего этого в книге, которая перед Вами, нет.
Зато есть в ней Тевтобургский лес, в котором малыш Калигула переживает глубочайшую трагедию своего народа. Есть арены, на которых будущий цезарь рискует жизнью, сражаясь с собственной трусостью. Есть его непролитые слезы о семье, которую уничтожили: отец отравлен, мать и братья уморены голодом или предпочли нож позорной казни. Есть трагедия человека, который тяжко болен. Есть его любовь, неразделенная, но при этом обоюдная; не спрашивайте, как это возможно, читайте! Есть знаменитый «удар Германика», которым убивает цезарь. Есть любовь к Риму, есть великие дела, которые свершены во славу отечества. Есть все, чтобы понять: это была короткая, трудная, но яркая жизнь, от колыбели до последнего удара мечом. История принца датского в сравнении с реальной историей Калигулы — просто веселый водевиль. И после смерти императору не довелось обрести покой; его оболгали. Кто и зачем это сделал? Обо всем этом — на страницах книги…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Рад видеть в добром здравии мать моих дорогих друзей, женщину, столь славную красотой, пусть и зрелой… а разве не более ценится созревший плод и в Риме, как во всем остальном свете, — нес его язык привычную чушь, привычную лесть…
Но, пусть она стара и страшна, а в глазах ее — мысль. Явная насмешка промелькнула в них в ответ на неудачную похвалу. Нет свойственной старости пустоты, сосредоточенности зрачка на чем-то внутреннем, не относящемся к нынешнему. Пусть нет и молодого блеска, но есть сознание. Он бы сказал, что бабка мудра, терпелива, склонна к размышлению. Способна на решения, и решения нешуточные. Как можно делать выводы, руководствуясь мгновениями общения? Недолгой погруженностью во взгляд? Он, Агриппа, умел это. И никогда, по сути, не ошибался. Он доверял первому впечатлению, знал, что обладает счастливым даром. Вот и сейчас внутреннее чувство подсказало ему, что следует делать. Ее, Антонию, не объехать и не обойти обычной лестью. Хитрость, лисьи повадки — не та дорога. Воззвать к ее благородству, к ее памяти — вот что следует делать. Но не криком и плачем, не требуя. Достаточно рассказать между строк, между слов в разговоре о том, что волнует. Она сумеет понять. Она захочет проявить свойственное ей благородство. Но только сама, не следует подталкивать, искать подходы. Она предпочитает собственные решения. И оскорбится, если ее принудить…
— И молодой человек, наследник славы этого дома. Похвально, похвально… Я был свидетелем твоего триумфа, юноша, весьма похвально. Кони были покорны тебе, сама Фортуна, казалось, неслась впереди твоей колесницы. Отрадно, что мужество предков в твоей крови не угасло, а только возросло. И сколько же геройств способен ты совершить ныне! Я сам видел все, я-то видел, и я могу сказать — ты пойдешь далеко, юноша, ты способен на многое…
Калигула не сводил глаз с гостя. Он слышал намеки, он чувствовал, что пропасть разверзается у ног его…
Агриппа же говорил, говорил, предоставляя языку сомнительную честь вытаскивать себя и хозяев дома из неловкого состояния, частого меж людей не слишком близких, давно не видевшихся. Встретились — и нечего сказать, по сути. Говорить же надо, чтобы не было цезур, странных длиннот. И напряженно думал, думал…
Мальчишка, вот еще одна беда! Ну что такого в лице Агриппы необыкновенного, хотелось бы знать, что он не сводит с него глаз! Может, его круглое лицо и лишено привлекательности черт, той резкости, что свойственна римлянину. Ему не раз говорили, что оно расплывчато, размыто, что обречена всякая попытка поймать истинную мысль обладателя на этом лице. Так это же хорошо! Не пускать бы еще сюда свойственную ему хитрость, вдруг придающую лицу нечто лисье, принюхивающееся, мигом меняющее настроение собеседника! Так нет, тут уж ничего не сделаешь. Стоит только всерьез сосредоточиться на делах, оно, выражение лица, тут как тут. Может, этот, которого все называют Сапожком, не так груб, как предмет, которым его прозвали? Солдатский сапог, надо же было такое придумать. Если обладатель имени не так туп, грязен и потерт, как его зовут, надо бы остеречься его…
Сам того не чувствуя, Агриппа потянул воздух носом, слегка прищурил глаз.
Антония усмехалась про себя. И недоумевала, и даже злилась несколько. На судьбу, что так несправедлива. Сколько надежд было на брак Ливиллы! Друз Младший, единственный сын тирана, такой прямой, такой благородный, такой чистый. Безмерно любящий жену, редкую красавицу. Ну почему? Почему ему надо было уйти так рано, а этот князек-прилипала жив и здравствует! Сын, Германик, писал ей об этой разновидности рыбы. Прилипнет к панцирю черепахи, рассекающей голубые воды далекого теплого моря. Такой красивой, такой величавой. И везет черепаха на себе прилипалу, и везет. И пища находится ей, негоднице-прилипале, и возница, и постель…
Не так ли и этот князек: сколько чего перепало ему, пока плыл он на спине у Друза! И чести, и монет, и веселых деньков. До сей поры хватило всего, а Друзу не достало просто жизни! Впрочем, нет нужды быть злой. Агриппа не сделал ничего плохого, и не он отнял жизнь у Друза, ох, не он. Как подумаешь, что сотворила собственная дочь, и что сама Антония сделала, погубив виноватую… Виноватую, но все же дочь, дочь! Девочка моя, красавица, дура безмозглая, глупая тварь, бабочка-однодневка, кукушка, чьи яйца оказались в чужом гнезде…
Сила привычки вела их всех, сегодняшних собеседников, к гавани, к тихому, спокойному берегу. Привычка к внешнему благообразию, к плавной, размеренной речи ни о чем спасала от крика в голос, от открытого проявления чувств. И вывозила, выручала, скрывала подводные мели, преодолевала страшные рифы, вела, вела за собой…
Сделав над собой усилие, Антония даже улыбнулась Агриппе. В нескольких вежливых словах дала понять, что помнит, ценит былую дружбу ее семьи с Агриппой. Слов соболезнования не приняла, отмела их простым движением руки. Но столь царственным, что Агриппа захлопнул рот на полуслове. Ему дали понять, что дела семейные не обсуждаются. Он ощутил ее протест, ее возмущение. Дела этой семьи — история Рима, и не его удел думать что-либо вообще по этому поводу. Их рассудит будущее. Казалось, она была совершенно уверена в том, что будущее будет ею интересоваться. Агриппа же вовсе не был в этом уверен, и тень зависти коснулась его души. Есть же люди, у которых есть и деньги, и слава, и место в будущем. Он дал себе слово в эту минуту, что останется в будущем тоже, чего бы это ни стоило…
— Мне всегда хотелось увидеть мир, — задумчиво сказала Антония вдруг. — То есть я знаю, что нет другого мира, кроме Рима, а если он есть, то мал и ничтожен, и стремится стать частью Рима, — так ведь?
Агриппа затруднился ответить, только нерешительно покивал головой в ответ. Пожалуй, сомнения по поводу ее мысли имелись, но озвучить их вслух значило бы перечеркнуть свои надежды…
— И все же, мужчины могут позволить себе видеть мир на окраине нашей вселенной. Мне кажется, это могло бы развлечь. А положение матроны обязывает нас сидеть на месте. Мой отец часто был осуждаем, я же полагаю, что был еще чаще счастлив. Он видел чужие страны.
Агриппа мог бы добавить, что и кости ее отец сложил довольно далеко отсюда. Немало забот перед тем доставив родине. Впрочем, раз ступив на дорогу соглашательства, не стал менять позиции. Согласился.
— Я мало знаю о твоей стране, чужеземец. Говорили, что твой дед был еще довольно большим властителем, и отец был с ним дружен. Вы, нынешние, разделили горстку земли на пылинки, сами стали пылью. Чем ты живешь, что есть у тебя, кроме одежд на теле и многих надежд?
Агриппа задохнулся и от возмущения, и от радости. Разговор ступил на ту почву, куда хотелось завести его первоначально. И он даже не начинал его, собственно, не его это была инициатива. Но эта женщина ухитрилась задеть его, выставив на свет самое неприятное. Меж тем отмела легко все неприятное, что касалось ее самой, не дав даже посочувствовать себе. А посочувствовать чужому горю порой так сладко! И так поднимает настроение! Впрочем, стоило промолчать, если Агриппа хотел добиться чего-либо. А он хотел, и хотел тем более, что глас оскорбленной гордости подступал к самому горлу, вызвав приступ удушья.
Он потупил голову. Он опустил очи долу. Он представил себя Авраамом [121], приносящим в жертву сына, проникся его болью, и смирением тоже. Когда он поднял голову, в глазах были слезы.
— У моей страны, как и у меня, ничего не осталось. Нет достойного главы; в сравнении с Римом — мы ничтожная пылинка на подоле богатого одеяния вашего мира. Но если такие, как твой отец, как ты сама, мечтают порой, приподняв края одежд, рассмотреть эту пылинку?! Быть может, то остатки драгоценного камня, разлетевшиеся в руках неумелого ювелира? А будь он искусней, как мой дед, засверкал бы тот камень тысячами лучей после огранки!
Она нашла его ответ слишком цветастым, пожалуй, а желание властвовать — слишком открыто высказанным, наивным. Странно, но теперь уж в души Антонии проснулась зависть, она-то сама не могла позволить себе быть такой открытой. Даже с теми, кого любила. Впрочем, их немного осталось, один внук. Пожирающий глазами гостя. Что разглядел Калигула в этом человеке? Что стало предметом столь явного его интереса? Не обладая опытом и мудростью, не страдая излишним умом, молодость, надо признать, пора откровений свыше, внутренних озарений. Когда всему научишься, озарения приходят реже, задвинутые в угол рассудком. Привыкаешь следовать размышлению, не порыву, а порыв, быть может, принес бы куда больше…