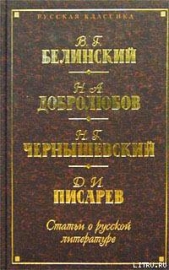«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
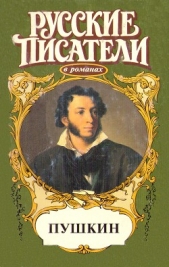
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ему было неловко признаваться хоть и самому себе, но он испытывал быстрый укол самолюбия, когда видел толпящихся вокруг Пушкина. И эти глупо-готовно приоткрытые от излишнего внимания рты...
Он понимал себя как одну из умнейших голов в государстве, к тому же у него была завидная, привитая отцом и английским воспитанием привычка трудиться. Всё восхищение, по крайней мере в тех местах, где правил он, должно принадлежать ему. Ни с Пушкиным, ни с Раевскими, как случилось в сегодняшнем мимолётном разговоре, он делиться не собирался. Но сдержанность была первым правилом его натуры. И, стоя посреди светлой, нарядной комнаты, он улыбнулся, разом охватывая и приближая к себе этой улыбкой и Пушкина, и археолога Бларамберга, и Туманского, и Казначеева, начальника своей канцелярии, которого ничем нельзя было обмануть, но следовало держать возле себя как человека чрезвычайно полезного по службе...
В улыбке была особая тонкость, придававшая его словам неуловимый оттенок.
— Генерал достоин всяческого уважения как по боевым своим делам, так и по жизни всей, прожитой. — Оттенок этот был намёк на то, что генерал жизнь прожил и рано стал уступать дорогу. А его, Воронцова, дело — ещё впереди. Он мог проявить снисходительность.
Пушкин никаких оттенков в реплике Воронцова не приметил. Он, казалось, только ещё больше разгорелся:
— Николай младше меня — воин в отрочестве, воин нынче... Но Александр... Я думаю, провидение наделило его умом стратега, не может того быть, чтоб не настал его час...
Воронцов всё ещё продолжал улыбаться. Светлыми, прозрачными в своей деланной искренности глазами он посмотрел на жену. Александр Раевский, не безразличный ей некогда, был им особенно не любим.
— На днях Александр Раевский будет у нас в Одессе, — сказал граф. — Боюсь только, для его тонкого и просвещённого ума мы слишком провинциальны...
Граф говорил как будто с серьёзным сожалением, но Пушкин наконец уловил иронию далеко не добродушную.
— В Москве или Петербурге он был бы более уместен. — Воронцов сквозь зубы тянул фразу. — Но климат морской ему необходим по болезни ног и слабости груди.
Совершенно просто и открыто он смотрел на жену, можно было подумать сверяя своё мнение с её собственным, которое непременно должно было быть у них одно на двоих.
Графиня слушала мужа, сидя в кресле ещё вольнее и грациознее прежнего. Взгляд её был доброжелателен, по внимательный наблюдатель мог увидеть в глазах графини недалеко спрятанную усмешку.
Пушкину показалось: в первый раз он увидел Элизу Воронцову не женой наместника, не царственной хозяйкой дома, но прелестной и прельстительной женщиной. Он не замечал, но даже шею вытянул, наблюдая этот взгляд её, блестевший оживлением, лукавством, желанием раскинуть ещё одни сети...
Елизавета Ксаверьевна отнюдь не стремилась увести разговор от опасной темы. Она сказала Пушкину:
— Я буду рада, если путешествие принесёт вам новые минуты вдохновения. Впрочем, тут эгоизм: воспетая земля, как женщина, уже любимая другим: прелесть её тем самым преувеличена во много раз.
Пушкин поклонился и принял слегка небрежную позу, сложив руки крестом и опираясь на подоконник. Что-то изменилось в эти короткие минуты в его отношении к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Однако и тут он едва ли мог предположить, какую роль в его судьбе сыграет эта блистательная женщина, в которой легко угадывалось сердце не то чтобы способное к чувствам — нетерпеливо жаждущее чувств, словно спешившее вознаградить себя за долгое девичество, за усадебную скуку. А скука эта, что ни говори, та же в деревянных домах псковских помещиков и в роскошном имении Бранницких...
Но, изменив своё отношение к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, Пушкин не мог не измениться и к окружающим её, более давним, более коротким знакомым. Они все казались недостойны её внимания, как и сам граф, разумеется. Он не стоил её любви, её доверия. Холодное, чиновное, презрительное ко всему, что не он, теперь всё явственнее виделось, всё обнажённее выступало в красивом лице и прекрасных манерах сего господина. К тому же, возможно, и граф учуял перемены, происшедшие в Пушкине. Теперь разговор сквозь зубы, отстраняющий взгляд проявились в полной мере и по отношению к поэту.
III
Так почему же, если события развивались именно так или хотя бы приблизительно так, как я нарисовала, Пушкин провожал корабль, плывущий к берегам Тавриды, кроме всего, с чувством человека, оскорблённого внезапно? Он был уязвлён — это ясно. Хотя после истории с саранчой, кажется, чего и ждать, как не следующего проявления пренебрежения? Да и сам он мог ли принять предложение поехать в Крым, если бы оно последовало? (И было бы именно предложением, а не распоряжением). Вернее всего, чувство, похожее на отчаяние, пришло оттого, что весной двадцать четвёртого года он уже был охвачен страстью, которую позднее назовёт могучей.
...И вот он стоит на берегу в темноте, пахнущей степным, остывающим ветром, и только воображение его может следовать за кораблём, что и делает. Он был зол сейчас на целый свет и в неприязни своей видел прежде всего графа и его торжество. Тот сидел во главе овального стола, занимавшего весь салон. Руки его были заняты ножом и вилкой, рот — едой, но граф слушал Туманского вполне снисходительно — между жарким и бланманже...
Пушкин ничего не имел против Туманского. Они считались приятелями, да и были приятели. Но Туманский претендовал на дружбу, полагая, что чуть ли не заменяет ему Дельвига. Забавно... Как будто кто-то вообще мог заменить лицейских. Он хорошо усвоил за эти годы правило: сменяя, не заменяют. Каждому — своё.
Туманский знал кое-какие его сердечные тайны. Он читал Туманскому свои стихи, посвящённые Амалии Ризнич. Но его любовь к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой была совсем другое...
Он ужаснулся, когда узнал, что Туманский кому-то из общих знакомых с важностью объяснял — мол, Пушкин открыл ему не только свой портфель, но и своё сердце. Нынче эту болтовню могли принять за нескромное афиширование чувств к графине. Многим, он думал, приходила охота языками почесать насчёт его увлечения, которое он выдавал разве что краской в лице да неотрывными взглядами. Саму же тайну он берёг тем более ревностно, чем глубже втягивался в неё. Его быстрое перо рисовало её профиль на листках неоконченных стихов, её букли, её несколько длинноватый нос. Она уходила от него по чистому листку бумаги, тонкая талия, высокая причёска, руки протянуты вперёд, к кому-то, не к нему. Она спокойно смотрела с другого листа, в чепце и шали, руки сложены на груди, он никак не мог передать пронзительную прелесть её наружности. Нечто неуловимое пером заключалось в её взгляде, в улыбке.
Он рисовал её, а рядом профиль Воронцова — семейная пара, от которой зависел, с которой встречался чуть ли не ежедневно, не более того. Он тщательно зачёркивал вензель Е. W., совершенно помимо воли появлявшийся в его тетрадях.
В этой любви вовсе не заключалось молодого, напоказ всем сверканья. И мукой в ней оказалась главным образом не ревность, но простая невозможность ответа. И ежечасная, чтоб не сказать ежесекундная память о том, что их разъединило. Уж, разумеется, не эта померкшая с заходом солнца, лениво плещущая у его ног стихия.
В Петербурге вовсю шумел его «Пленник» и ещё громче — новая поэма «Бахчисарайский фонтан». Он знал, с какой жадностью печатались, переписывались, повторялись его стихи, и всё-таки, как мальчик, просил самых насущных денег у отца, а тот, отвечая пространными письмами, денег не слал. Всё это напоминало Петербург, юность, споры в доме из-за рубля, всё это говорило: связан, связан, связан, кроме ссылки, многим ещё...
Независимость — единственное, что действительно нужно было ему в этой жизни. Независимости, однако, не было и не предвиделось, даже если он подаст в отставку. Тоска была. Тоска эта шла с ним рядом, когда он наконец оторвался от моря и стал подниматься по глинистому откосу. Размахивая своей тяжёлой тростью, скорее походившей на палицу, стал сбивать ветки дерезы, захватившей откос и перевесившейся на тропинку. Он шёл по этой полузаросшей тропинке. Горло давило, будто что-то рвалось наружу — может быть, рыдания. А может быть, крик злости или судорожный, не похожий на его обычный, смех? В ту ночь он долго бродил по городу, не напрашиваясь ли на какое-нибудь припортовое происшествие, опасное для самой жизни? Всё было лучше охватившей его тоски. Он сам, признаться, дивился этой тоске.