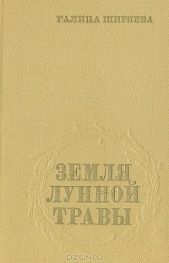За великое дело любви
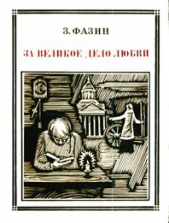
За великое дело любви читать книгу онлайн
Повесть о героическом подвиге и мужественной жизни питерского рабочего Якова Потапова, который стал первым знаменосцем русской революции. На революционной демонстрации в Петербурге в декабре 1876 года тогда еще совсем юный Потапов поднял красный стяг. Материал, на котором построена повесть, мало освещен в художественно-документальной литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— В Кемь я… Туда! — и показывает взмахом ослабевшей руки куда-то в глубь моря. — Мне на волю надо… Я арестант…
— Ты что же надумал? Бежать?
— Бежать. Точно, — кивает Яша в ответ на сыплющиеся с берега вопросы. — В заточении меня тут держали… уже, почитай, два года. И безо всякой вины…
— Ну без вины не бывает, парень. Все врешь ты! А ну вылазь из лодки! Ишь какой!
А Яша действительно намеревался до Кеми добраться, до этого глухого уездного городка ближе, чем до Архангельска, где сам губернатор сидит. И Яша, не в состоянии понять, как могут люди не верить, все твердил:
— Ей-богу, в Кемь я… Вот Христом-богом клянусь! Куда мне хотеть-то? В Кеми я как-нибудь устроюсь…
В этот вечер Яша снова испытал на себе ту косную страшную силу, которая делает иногда толпу соединением хотя бы и хороших людей, но проявляются в них не лучшие, а худшие черты. Случайное, дикое, наносное обращает их ярость против своего же человека. Так было и на Казанской площади, когда обывательская публика бросилась с Невского проспекта к собору помогать городовым и жандармам избивать демонстрантов. Так получилось и в этот раз.
Яшу выволокли силой из лодки и повели обратно к монастырским воротам. А солдаты-стражники острога уже искали его, бегали по двору, суетились, что-то кричал низенький усатый унтер-офицер с башни. Увидев, что ведут Яшу, он сбежал во двор и в упор приставил к груди беглеца стальной штык винтовки.
— Сейчас заколю!
Измученный Яша ответил:
— Коли, будет лучше…
И снова он очутился в остроге, но не в прежней камере, а в более надежной, где решетка и дверь были потолще и покрепче. И по приказу Мелетия еще заковали Яшу в ножные кандалы.
А на другой день утром к Яше заглянул Паисий. Именно заглянул, всего одну-две минуты побыл в камере. Казалось, просто зашел поглядеть в последний раз на человека, которого так и не удалось уговорить повести себя по-умному, то есть закрывать на все глаза.
Все та же исподняя рубаха была на Яше, ноги кровавили, и он вытирал рукавом рубахи кровь у того места, где ноги были закованы тяжелой цепью. Оглянувшись на стук двери и увидев Паисия, Яша отвернулся и не произнес ни слова.
А Паисий сказал:
— И все-таки страх господень, только он начало премудрости. И ты еще это, даст бог, поймешь.
Потом, вскоре же, был суд.
Вел дело следователь Кемского уезда Плещеев, он сам приезжал в Соловки допрашивать обвиняемого узника Потапова, как было дело. А Яша и не отрицал ничего. Да, пощечину Мелетию давал, да, бежать пытался. Чего еще надо вам знать, господа? Следователь был неглупый человек, даже сердобольный, и не без некоторого сочувствия поглядывал на Яшу.
«Обвиняемый узник»… Самому следователю дело казалось необычайным, такого он еще не вел.
А из Петербурга шли и шли бумаги с предписанием строжайше судить Потапова. Писал министр юстиции Набоков (пришел на смену графу Палену), писал товарищ министра внутренних дел, писал губернский прокурор, писал святейший Синод. И наконец, в осенний сентябрьский день Архангельская судебная палата определила: загнать Якова Потапова на всю жизнь в «отдаленнейшие места» Сибири с лишением всех прав состояния и преданием церковному покаянию по месту ссылки.
В январе следующего года правительствующий Сенат утвердил приговор, и тогда товарищ министра внутренних дел Иван Николаевич Дурново, такой же, как и Победоносцев, махровый реакционер, написал генерал-губернатору Восточной Сибири, что Потапова следует поселить в самый глухой угол Якутии.
Так исполнилось предсказание старого полицейского служаки — провидца и прорицателя Кириллова. Исполнилась и воля Мелетия, и не без мстительной радости он сообщил в мае того же года в Петербург обер-прокурору Синода Победоносцеву:
Кемское уездное полицейское управление от 13 сего мая за № 3313 вследствие предписания Архангельского губернаторского правления от 10 минувшего марта за № 1978 уведомило учрежденный собор монастыря, что содержащийся в монастырском остроге арестант, крестьянин Яков Семенов Потапов, по решению Архангельской палаты уголовного и гражданского суда, утвержденным правительствующим Сенатом, приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение в отдаленнейшие места, по обвинению в нанесении удара по голове настоятелю архимандриту Меле-тию. Согласно требования Кемского полицейского управления упомянутый арестант Потапов закован в ножные кандалы и наручники и передан под присмотр присланным из Кемского полицейского управления двум тамошним полицейским служителям, Титову и Богданову, для доставления в Кемское полицейское управление, что сего числа и исполнено.
Исполнилось намерение Яши, когда он готовился к побегу из монастыря, — он попал в Кемь, в тот уездный городок, куда стремился, но… уже в кандалах. Под звон этих кандалов он и дошел по этапу до Якутии…
Глава восьмая НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

Теплый июльский день, но дождь льет и льет, мелкий, надоедливый; в городе лето, но ведь это Якутск; в природе и в мире творится что-то невообразимое, но ведь вся старая жизнь перевернулась — нет Сената, нет Синода, нет царя и нет его министров. Небывалое, но то, за что люди боролись и страдали и чего ждали, свершилось.
В Россию, в огромную бывшую империю, пришла революция, и с октября прошлого года новая, большевистская власть ведет отчаянную борьбу с врагами революции, и сейчас повсеместно кипит гражданская война.
А здесь, в Якутске, всего лишь третий день реют алые знамена; из Иркутска пробился с боем отряд Красной гвардии и прогнал белых, стоящих за Колчака.
На митинге, в день прихода из Иркутска красногвардейского отряда, ораторы говорили с трибуны о героическом рабочем классе России, о том, какой тяжелый путь борьбы с царизмом прошла большевистская партия, сколько лучших борцов партии и народа пали жертвами в этой борьбе. Говорили о союзе пролетариата с крестьянством, о раскрепощении всех угнетенных народов бывшей империи и о светлом будущем.
Потапов этого сам не слышал, плохо ему было в день митинга, но вчера смог прочесть об этом в газете. И, читая, думал:
«Пришла пора, значит… А ведь как ее… муза Клио — это давно пророчила… Исполнилось-таки».
Сегодня Яков Семенович чувствует себя получше и хотел бы выйти на улицу, но врачи не разрешают. Остается одно: сидеть у окна палаты с книгой (с книгами он по-прежнему не расстается) и смотреть на вымокшую бурую улицу, на висящий через дорогу красный флаг и торопливо пробегающих прохожих. День пасмурный, но тепло, и воздух будто весь пронизан солнечным светом, даже непонятно, откуда он берется, — низко нависшее небо заволочено сероватой мглой, и дождик все сеется, но стекающие с крыш капельки поблескивают серебристыми искорками, и кажется, весело им шлепаться в лужи… Во всяком случае, именно так кажется Якову Семеновичу, легко у него сегодня на душе и грустно отчего-то.
В палату быстрым шагом входит молоденькая больничная сестра в белой косынке.
— О, какой вы сегодня бодренький, — говорит она Потапову. — Хотите чаю? Я принесу. Заварю покрепче, как вы любите. Чай есть…
Из красногвардейского отряда, освободившего город, прислали в больницу подарок — белой муки мешок, несколько пачек настоящего чаю и целых две головки сахару. Прислали из своего пайка и мясных консервов. Обед был праздничный, в палатах стоял веселый гомон.
Яков оборачивается к сестре. Он долго смотрит на нее: она якутка, у нее широкое скуластое лицо и отливающие черным лаком блестящие глаза.
— Чаю, ты сказала? Потом, потом, дочка, не сейчас.
Хотя постой! Горячей воды, пожалуйста, принеси. Я побрился бы.
Сестра строго машет пальчиком.
— На улицу хотите? Вам нельзя!..
— Нету же у меня температуры-то.
— Все равно. Нельзя, это вы понимаете?