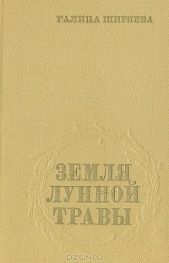За великое дело любви
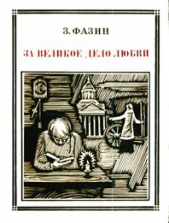
За великое дело любви читать книгу онлайн
Повесть о героическом подвиге и мужественной жизни питерского рабочего Якова Потапова, который стал первым знаменосцем русской революции. На революционной демонстрации в Петербурге в декабре 1876 года тогда еще совсем юный Потапов поднял красный стяг. Материал, на котором построена повесть, мало освещен в художественно-документальной литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вернулся с первым пароходом на остров и настоятель Мелетий. И тотчас снова начались строгости в укладе жизни узников, их уже не выпускали из-под надзора, камеры запирались и даже на работы заключенных во двор уже не водили.
А Яша, однако, даже обрадовался, когда узнал о появлении Мелетия в монастыре, и стал просить Паисия, чтобы похлопотал о разрешении ему, Яше, написать в Петербург.
— Вряд ли он разрешит, — скептически качал головой иеромонах.
— Но почему? — не мог понять Яша и говорил с досадой: — Я же ничего такого не напишу!
— Попробую уломать, — пообещал иеромонах. — Только мои собратия и так уже нарекания на меня имеют, будто я мирволю тебе и всяко попустительствую, а должен бы взыскивать построже. Эх, дитя ты мое неразумное, агнец ты еще совсем, хотя и стукнуло тебе почти двадцать.
У Яши начинала курчавиться реденькая светлая бородка, но на вид никто не дал бы ему столько лет, он оставался таким же худеньким, тощим, неприметным, каким был и в шестнадцать. «Агнцем» назвал его Паисий. О, если бы отец настоятель это услышал — в глазах Мелетия Яша оставался государственным преступником, одним из самых трудных и опасных арестантов острога.
После разговора с ним Паисий явился к Яше в камеру и сообщил:
— Нет, дозволения тебе писать не дается, его высокопреподобие против. Но, правда, дал бы согласие при одном потайном условии. Ты не слыхал из истории про «Слово и дело»?
— Слово и дело? А насчет чего? — с недоумением спросил Яша.
Паисий начал свои пояснения с тяжелого вздоха. Помялся и, не глядя Яше в глаза, сказал:
— Арестантам у нас дозволяется иногда писать домой, но только о присылке им для пропитания запасов и о прочих домашних нуждах, и не более того. И чтобы в письме подавно уж не было противных богочестию суждений и никакой зловредности вообще. Есть у тебя кому писать?
Яша давно обдумал, кому и как он напишет. Домой, в Казнаково, родителям, просто передаст от себя привет. А просить у них нечего, сами бедствуют.
Главное письмо будет к Вере Фигнер, ее питерский адрес он помнил, бывал ведь. Не довелось ему тогда пообедать у нее, ведь позвала. И не может же быть, чтоб она забыла его за эти немногие годы. Он не сомневался, что это именно от нее приносила Ольга в предварилку передачу для него и не без ее участия был нанят защитник, когда готовился суд.
Она! Она! Яша твердо верил: все она! Но кто же та, которая прислала ему письмо в Спасо-Каменскую обитель? Не могла она быть Верой Фигнер, иначе не писала бы, что не знает его.
Наверно, и Ольга попала под арест. А вдруг и Фигнер уже в «нетях»?
У нас было время рассказать об этом, потому что Яша не сразу ответил на вопрос Паисия, хотя, казалось бы, все давно продумал. Причиной заминки было сказанное иеромонахом насчет «слова и дела».
И, словно угадав, в чем затруднение Яши, Паисий как раз об этом и заговорил:
— Ну, куда и кому напишешь, это твое сугубое дело, особое, но сыздавна повелось у нас такое: ежели арестант скажет, что знает какую-то «государеву важность», государево «слово и дело», то доноситель может быть отправлен в Петербург для дачи личных показаний по принадлежности, кому следует.
— Каких показаний? — Яша еще не понимал, о чем речь.
— Еще объяснять тебе, балда, — с внезапным раздражением отозвался иеромонах. В последнее время он снова стал грубым и резким. — Бестолковая у тебя башка, однако, балда и есть! — совсем уж ни за что обругал он Яшу. — Ну, тогда слушай ухом, а не брюхом: «государево слово и дело» означает, что ты, коли скажешь эти слова, берешься сообщить про известных тебе оскорбителей особы царя или об дерзостном умалении особ верховной власти.
Теперь Яша понял.
Паисий бросил на него беглый взгляд и снова отвел глаза.
— Думай, думай, сынок. Коли решишься, то окажешься там, в Петербурге, где в тайной канцелярии тебя доиро…
Договорить Паисий не успел. Яша так нехорошо обругал самого настоятеля, что Паисий обеими руками заткнул уши.
— Экий ты все же предерзостный юнец! — сказал Паисий. — Не приведи господь повторить эти богохульные слова при его высокопреподобии!
— А я не побоюсь, коли придется, — весь белый от негодования, произнес Яша. — Я еще и побить могу за такую подлость!
Глава седьмая ПОЩЕЧИНА

В это лето Яше бежать не удалось — он проболел почти два месяца, сыпной тиф обессилил его настолько, что ходил он, держась за стены, иначе не мог. Исхудал до невозможности. И не успел прийти в себя, как короткое северное лето кончилось, повалил снег, засвистели вьюги, и снова наступила зима.
Настоятель Мелетий на сей раз почему-то остался на острове, и недовольны были этим все обитатели монастыря, и вольные и невольные. О, какая это была трудная, суровая зима! Казалось, ей конца не будет…
Завезенные сюда летом и брошенные собаки поднимали тоскливый вой, когда на соборной колокольне и в других церквах острова начинали бить в колокола. И звон колоколов тоже казался протяжно унылым. А отойдет служба в соборе, и наступит тишина, на душе становится еще тоскливее.
Из-за Мелетия связь с материковым берегом и с Архангельском сохранялась. Несмотря на опасности зимнего плавания по Белому морю, находились смельчаки, ухитрявшиеся пробраться между льдинами на утлых суденышках и привозить в обитель на остров почту.
Читал Яша в эту зиму много, даже газетки иногда попадали к нему — приносил их тайком Паисий. Яша давно перестал понимать, что это за человек. Приставлен он был к Яше как наставник, который, как того требовали III отделение и Синод и как говорилось в бумаге, был бы «наиболее способен строгостью своей жизни и сознательной твердостью своих убеждений и правил послужить Потапову примером к исправлению». А наставник-то оказался вон каким!
После разговора о «слове и деле» Яша стал замкнут и не поддавался больше на откровенные разговоры, которые Паисий бывал не прочь продолжать.
— А что вы обо мне своему наиглавному отцу говорите? — спрашивал иногда Яша у иеромонаха.
Тот отвечал с обычной усмешкой:
— А как сам бы ты думал: что я могу про тебя доложить архимандриту?
— Ну, что я плохой, совсем не исправляюсь и зря меня поучают…
— А я в таком духе примерно и докладываю, — с той же усмешкой отзывался Паисий. — Хожу, говорю, беседую, душеспасительные поучения излагаю, говорю, в правилах нравственности и долга наставляю, а толку-то, говорю, пока мало.
— А он что?
— Ждет от тебя «слова и дела».
— Да? Ну ладно же. Он дождется. Будет ему и слово и дело.
Теперь надеяться было не на что, и Яша начинал задыхаться, без надежд он жить не мог. Не лежалось ему, не сиделось, и он часами мог метаться по камере, не находя себе места. Даже на табурет у окна не вставал — хмурое, вечно закрытое облаками небо ничего хорошего не предвещало и уже не манило к себе.
Что же делать? Так не лучше ли взять да умереть? Чего проще. Бывали у него такие побуждения… Но стоило только вспомнить, какую подлость предложил ему Мелетий, как он загорался надолго жаждой сперва что-то такое сделать, чтоб архимандриту стыдно стало, а потом уже наложить на себя руки.
Он в уме сочинял письма Юлии, и такие они получались хорошие, глубокие по мысли и точно найденным словам. Он мысленно писал:
«Не доживу я, доживет Россия, в это-то я твердо верю, и, ей-богу же, посейчас помню ваши слова: «Не будем равнодушны к тому, что было светлого в нашем прошлом», и не только что помню, а стараюсь все так и понимать. Хотя нагляделся всяких бед премного и теперь лучше знаю, что такое русская земля и как она стала быть.
И потому не могу не скорбеть душою, что столько несчастных вокруг и даже монахов иных жалко, а кто в богомолье утешение своим бедам ищет — жалко особенно, а не было бы горя, я думаю, не стало бы ни богомольцев, ни всяких странников убогих, которые ищут, где жизнь полегче.