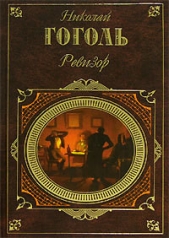Совесть. Гоголь
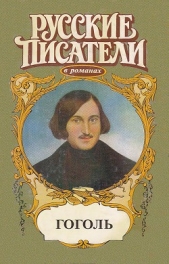
Совесть. Гоголь читать книгу онлайн
Более ста лет литературоведы не могут дать полную и точную характеристику личности и творчества великого русского художника снова Н. В. Гоголя.
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ему бы в самом деле в дорогу...
И дорога тотчас явилась ему, легко и с любовью уводя от немилых сердцу сумбуров да кошмаров бестолкового времени. Дорога оказалась широкой и гладкой, как безветренная гладь океана, а он понеживался себе в тарантасе, как в люльке, с мягчайшей нежностью, так и пружинили новые дроги, не в пример тряским железным рессорам, только что в два лихих взмаха срубленным в придорожном леске бородатым его ямщиком, так и качало, так и баюкало, утешая, прогоняя печаль, мирно теплело на сердце, чуть кружило в голове.
Впереди, по бокам разметнулся бескрайний простор. Позади подымался серым драконом пыльный дымчатый шлейф, оставляемый его экипажем. Справа, далеко-далеко, сплошной полосой чернели леса. Солнце жарким огнём слепило глаза. Мирным звоном потряхивал колокольчик.
Под рукой таился дорожный портфель. По временам он точно украдкой ощупывал нагретую кожу, проверяя без мысли, а так, наобум, по тёмной привычке своей, на месте ли, с ним ли ноша его, как делал всегда всю свою жизнь.
Он мчался куда-то, где его непременно ожидала удача. Он весь устремлялся вперёд и вперёд. Скорей бы, скорей довезти туда то, что было заключено в этом старом, потёртом, надёжнейшем в мире портфеле!
Какая всё-таки прелесть, какое великое счастье таится в самом этом бесконечном слове: дорога!
А он тут рассиживал в затасканном кресле, маленький, сгорбленный, щуплый, как дряхлейший старик, и пугал себя каким-то сумбуром, каким-то кошмаром, а никакого сумбура, никакого кошмара может не быть.
Скорей бы! В руку дорожный мешок, под мышку верный портфель! Разгулять и развеять тоску! Полечиться немецкими кислыми водами! Освежиться телесно, обновить усталую душу свою и покрепче обстроить себя!
Николай Васильевич встрепенулся.
Он уже снова сидел, а зачем? Он в самом деле стал подниматься. Взгляд его, было заглохший, начал разгораться. Надежда на обновление расшевелила его.
Как сделалось наше дело, решаем не мы, и всё ещё может быть впереди.
Он готов был очнуться, опомниться, всё вновь передумать, что задумал нынче в кромешной тоске, и с воскреснувшим мужеством приняться за дело.
Да в уши ударила мёртвая тишина, сумрак стен оцарапал глаза, очарование стремглав летевшей дороги пропало куда-то, и оставалась одна щемящая боль, ещё осталось кружение да противный несмолкаемый звон в голове.
Ему одна оставалась дорога...
И не прежние дороги уже припоминались ему. В горькой памяти зловеще проступала та колея, которая оказывалась последней. И вновь потухали, чернели глаза, точно видеть её не желали.
Уж и сама дорога сделалась для него вредоносной...
Николай Васильевич ни думать, ни вспоминать о ней не хотел, однако, как в подобных обстоятельствах непременно бывает всегда, воображенье плохо повиновалось ему.
Он настроен был тягостно. Не хотелось погружаться ещё раз в сумбур и кошмар. И к предстоящему готовить себя он устал. И уж если не эта дорога, так привидится что-то иное, а много л и могло привидеться светлого, от которого бы восстала и окрепла душа?
Уж лучше пусть будет она...
И дорога вновь начинала приближаться к нему, осенняя, длинная, хмурая, с низким облачным небом, с уснувшим возницей, с тяжким топотом притомившихся кляч.
Может быть, и она началась «Перепиской с друзьями»...
Николай Васильевич так и схватился за эту нелепую мысль, которая казалась всё-таки полегче иных, несколько отвлекая от тех, страшивших его, и как будто подкрепляя, как будто бодря.
После «Переписки с друзьями» он не озлобился, не проклял ни врагов, ни друзей. Он даже ни с кем не рассорился, знакомства ни с кем не прервал, посещал всё те же неблизкие, недорогие сердцу дома, отправлял пространные письма всё тем же неотзывчивым, не всегда отзывавшимся людям. Он лишь вовсе укротил свою откровенность, напуская весёлость, сделавшись корректным и сдержанным со всеми, надеясь хоть этим нехитрым манёвром спасти душу от тяжёлых увечий, лишь бы не стонала, не ныла она, лишь бы мог он с прежним упрямством предаться родному труду.
Он и всегда-то был одинок, может быть, с самого детства. Даже самые близкие и родные нередко не понимали его, хотя, думалось ему, нетрудно было понять — такие простейшие истины положил он правилом жизни своей, неприметной и скромной. Всё, что вызрело в нём, многим, чуть ли не всем представлялось непонятным и странным. Стоило в дружеском разговоре высказаться чуть поживей, Константин криком кричал [25], Степан [26] уставлялся пустыми глазами. Погодин вскакивал, свирепел и гневно жаловался Сергею Аксакову [27], который странным образом брал его под защиту, с обыкновенным пылом своим убеждая:
— Ну, как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него все нервы вдесятеро тоньше, чем наши, и устроены как-нибудь вверх ногами!
На что Погодин ответствовал сухим хехекавшим смехом своим:
— Разве что так!
Любые изъяснения точно падали в бездну: они не стремились понять, они осуждали большей частью за то, что он действительно не похож был на них, однако не тем, что нервы у него завелись вверх ногами, а тем, что думал иначе и жил вовсе не так, как думали и жили они.
Он в первой юности поспешно и бойко писал — они одобряли его плодовитость, но с особенным удовольствием выставляли ошибки и промахи, рождённые, как он понял потом, его торопливостью.
Одумавшись, быстро повзрослев не по летам, поразмыслив кое о чём не совсем повседневном, он принялся трудиться обдуманно, медленно, тяжело, пропуская сквозь мелкое сито сомнений и долга перед людьми всякий свой замысел и всякое слово, — они с восторгами, с криками превозносили безупречную стройность его новых творений, которой он достигал лишь этим усидчивым, многодневным трудом, однако громко корили его кропотливостью, требуя, чтобы он дарил им книгу за книгой, точно писанье его был простой механический труд, ремесло или он на богатой полянке в урожайную пору грибы собирал.
То же самое повторялось везде и во всём. По житейским делам он представлялся им чудаком, а кое-кому и притворщиком: им невозможно было понять, как это он, имея кое-какие возможности, не желал наживать ни домов, ни деревни, ни даже одежд, приличных знаменитому литератору, которого давно уже принимали в самых лучших, в самых богатых и даже знатных домах.
А он продолжал всех любить, несмотря ни на что, высшей братской любовью, хотя такая любовь была ему подчас тяжела, поскольку так трудно любить, особенно тех, кто ни в чём не понимает тебя, и одна эта любовь выручала его в кромешном одиночестве между людьми.
«Выбранные места из переписки с друзьями» оборвали чуть ли не все душевные связи, чуть ли не всё иссушили вокруг, обратив родимую землю в пустыню. Ни отзвука, ни души ниоткуда. Он всем оказался чужим: европеистам и славянистам, либералам и консерваторам, атеистам и православным, правительству и читателям, друзьям и врагам, бестолковой своей современности и едва ли не всему человечеству, а возможно, стал отчасти чужим и себе самому.
Ни души вокруг на тысячу лет.
Всё ему в осуждение, решительно всё в беспощадный укор.
Нет, это не был обыкновенный литературный провал, который, по разным причинам, может приключиться с любым, кто владеет пером.
Под ним словно расступилась земля, на которой стоял он и без того недостаточно твёрдо, с каждым днём всё настойчивей, всё серьёзней сомневаясь в себе.
Оглядевшись после ударов, просыпавшихся на его беззащитную голову отовсюду без жалости и числа, он увидел себя в пустоте. В голову всё чаще забирались безотрадные мысли и сокрушали его: «И непонятною тоскою уже загорелась земля, черствее и черствее становится жизнь, всё мельчает и мелеет, и возрастает только ввиду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днём неимовернейшего роста. Всё глухо, могила всюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоём мире...»