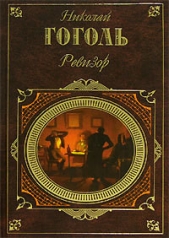Совесть. Гоголь
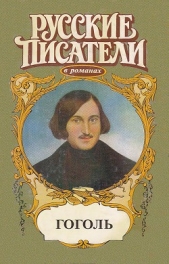
Совесть. Гоголь читать книгу онлайн
Более ста лет литературоведы не могут дать полную и точную характеристику личности и творчества великого русского художника снова Н. В. Гоголя.
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обхватив большими ладонями голову, не спуская с него пылающих глаз, незнакомец захлёбывался словами, порываясь что-то сказать:
— Ваши «Мёртвые души»...
В этом именно месте дверь приотворилась бесшумно, в узкую-преузкую щель легонько просунулась детская рожа Семёна и сообщила негромко:
— Кушать подали.
Он расслышал ещё:
— ...не имеют ничего...
Не считая деликатным просунуться далее, не находя возможности пойти без приказанья, Семён повторил:
— Подали кушать.
Отчего-то найдя себя не за ширмами, где точно бы перед тем устроился на постели, взглянув на Семёна в упор, Николай Васильевич всё ещё не видел его и дослушивал с жадностью то, что до мучительных слёз было необходимо ему:
— ...что бы можно было...
И осознал наконец, о чём повторил ему дважды Семён.
Начинался пост, и в первую неделю ему хотелось выдержать строго именно потому, что воздержание в пище, как множество раз проверилось на себе, ограждает от поспешных и суетных мыслей, послышней открывая душе веление учившего нас: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец наш небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде царствия Божия и правды Его, и это всё приложится вам...»
Нынче нуждался он в ясной твёрдости духа и потому, от говенья до говенья проверяя, насколько упрочилась воля его, отказался от пищи и ответил Семёну сердито:
— Передай, что, мол, болен.
Однако спохватился, что опрометчиво упоминать о болезни, а рассерженный тон рассердил его ещё больше: неуместно обманывать, неуместно так говорить, когда, весь нагой, он стоит перед Господом.
Николай Васильевич тут же прибавил нестрого:
— Да никого не допускай до меня.
Семён торопливо закивал головой и, угадав, что он с нетерпением ждёт, когда останется снова один, в мгновение ока исчез, прикрыв дверь без единого звука.
Он подождал, но незнакомец к нему не вернулся. Стало жаль, что не может отправиться в Тулу, бросив всё. Он бы выложил перед этим простым деревенским любителем чтения дорогой манускрипт, он бы сам прочёл вслух главу за главой, а потом бы послушал, какие промахи тот отметит. Придёт ли в подобный восторг? Откроет ли во втором томе достоинства сравнительно с первым? Примет ли слабости, тем более неоправданный, его недозрелым пером не осуществлённый замах?
Матвей ему так и сказал в сердитом своём возмущении, однако чем далее задавал он себе все эти вопросы, тем становился всё твёрже уверен, что второй том неудачен и слаб и что много лучше, обдуманней и стройней написан, чем первый, — вот и поди разбери.
С ним творилась непоправимая беда.
Как он догадывался смутно, на ощупь, неудача и слабость затаились не в исполнении.
Если бы так!
Да если бы только неудача и слабость, точно, просунулись по вине недозрелого его мастерства, он бы всякое слово вновь и вновь переправил, своей рукой переписал двадцать раз, однако мастерство его сделалось почти безупречным — этого он уже и сам не мог не признать, это и другие признали давно. Беда затаилась в чём-то ином, а недостойную вещь он был не в силах запустить под печатный станок. Никогда! Ни за что! Тому не бывать!
Нет, никому не отдаст он «Мёртвые души» в том состоянии, как они есть.
Не первый день это стало очевидным ему, а в такого рода делах колебаться он не умел. В людском суде всегда силился он предугадать высший суд, и как решит высший суд, так и будет, — слышать это было ему не впервой.
Он вдруг ощутил свою обречённость. Краски сбежали с худого лица. Оно сделалось сумрачным, тоскливым и жалким. С силой и болью выдохнул он:
— Не мо-гу...
Что-то неясное, смутное запрещало ему поднимать умелую руку на свой беззащитный излюбленный труд, чем-то непоправимым, ужасным угрожая ему, однако ж он повторил беспомощно, тихо:
— Нет, не могу.
Высший суд был ему необходим. При одной мысли о высшем суде между лопатками обжигало ознобом.
Тогда он подумал с лукавой своей изворотливостью, что замерзает вконец, поплотнее запахнулся в старый сюртук и стиснул покрепче зябкие плечи руками, да тотчас и понял, что лукавил с собой, то есть тяжко грешил. Дрожь повторилась сильнее и тем явственно подтвердила ему, что не прозаический холод был тут главной виной, что животная трусость трясла его слабое тело, преграждая верный путь к очищению.
Трусость была ему ненавистна. Ухватив, что эта гадость без спросу, без ведома завладела душой, он твердил, что обязан нынче же исполнить всё то, что вменил себе в долг не литератора только, но человека, а сам одними губами шептал:
— Не-е-е хо-чу-чу... не-е-е хо-чу-у-у...
Новых мыслей хотелось, крупных, освежительных, озаряющих мыслей, при первом же взблеске которых безоглядно мчаться вперёд, разбрасывая, ломая всё на пути, ломая, если придётся, даже себя, достигая победы или с радостным хрипом падая ниц. Творчества хотелось ему, дней и ночей вдохновенных трудов, когда самый тяжкий, самый сомнительный замысел озаряется вдруг изнутри бесконечной верой в себя, хотя бы на миг посетившей и согревшей душу создателя, расширяется, как одна неоглядная степь, беспредельно раздвигая границы свои, заряжается страшной энергией веры, и все образы, какие ни есть, обретая беспредельную глубину, возникают с такой ясностью перед взором, что едва поспеваешь бросать на бумагу точно раскалённые огненным жаром слова. Либо безграничное наслаждение своим неоглядно-любимым трудом, либо...
Ещё более крупная дрожь вновь сотрясла иззябшее тело, однако вечно творящая мысль уже без страха дошла до конца:
— Либо ничто.
Это колючее слово его обожгло. Он хотел бы это слово забыть, зачеркнуть, выбить из памяти, выставить вон, как выставляют незваного гостя, который ни с того ни с сего кричит и буянит в гостиной, однако угрюмое слово воротилось к нему, воротилось в новом, явственном, леденящем обличье: либо «Мёртвые души», либо неотвратимая смерть.
И забилось, заклокотало, рванулось, испуганно отстраняя эту последнюю, злую угадку: «Мёртвые души», натурально же «Мёртвые души», всенепременно, пусть ещё не достигнувшие, ещё не достойные поднебесной мечты, однако пусть всё же они, конечно, конечно... они...»
Он было ринулся к шкафу, одним рывком распахнул зазвеневшие тонкие дверцы и выхватил старый портфель, так что от тяжести плотной бумаги оттянулась книзу рука, опустилось плечо, покривилась спина, голова покосилась от усилия набок.
Уже внутренне Николай Васильевич весь устремился куда-то бежать, однако постоял в этой позе минуту, другую, втиснул на прежнее место тяжёлый портфель, прикрыл застеклённые дверцы без звона и аккуратно запер их на ключ.
«Мёртвые... души...»
Он сгорбился, добрался до печки и прижался щекой к изразцам.
Десять лет напрягал он безжалостно волю, мечтая создать потрясающей силы творенье. С любовью и тщанием перечёркивал, перекраивал, переправлял. Два раза сжигал наполовину готовые главы. Все одиннадцать, ровно столько, сколько было и в первом томе, восемь раз со старанием и любовью переписал своею рукой от строки до строки.
И вот чудовищная ответственность чёрным камнем легла в его потрясённую душу, ибо давно уже открылось ему всемогущество изречённого слова.
Сполпьяна выкрикнет обидное слово разгулявшийся, недоучившийся недоросль, и змеиным ядом вольётся оно в оскорблённую душу, и у самого добродушного человека разожжёт лютую ненависть к ближнему хотя бы на миг. Загнёт лицемерную, хитро сплетённую речь позабывший совесть видный политик, и бесстыдная речь прилипчивой ложью своей отравит души не одного поколения. Буркнет презрительно надутый всякой спесью паршивый канцелярист, и в безвинно униженном сердце загорится бессильная жажда отмщенья. Сладенько провещает на весь Божий мир наивный мечтатель, и несбыточными надеждами взбудоражатся и взбунтуются падкие на лёгкую веру народы. Брякнет сдуру несусветную пошлость жадный до денег бездарный фигляр, и развратом повеют его легковесные, как пух одуванчика, строки. Вымолвит сущий художник годами мук и трудов взлелеянное слово, и залежным гвоздём вонзится оно в умы и чуткую совесть живущих и самым хитрым снарядом уже не выхватить его оттуда, ибо намертво врастёт оно в распалённую истиной душу.