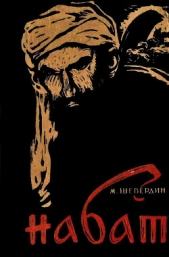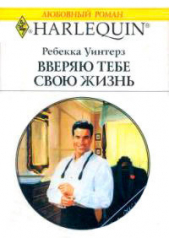Вверяю сердце бурям

Вверяю сердце бурям читать книгу онлайн
Новое, последнее произведение М. Шевердина, которое подготовлено к изданию после его смерти, завершает сюжетные линии романов «Джейхун» «Дервиш света» и «Взвихрен красный песок». Его герои участвую! в революционных событиях в Средней Азии, названных В И Лениным «триумфальным шествием Советской власти». Показаны разгром остатков басмаческих банд, Матчинское бекство, подъем к сознательному историческому творчеству горских племен Таджикистана, пославших своих делегатов на первый курултаи в Душанбе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И тут же под ногами на дороге в двух шагах подрагивающее в агонии тело.
Истерически вскрикнув «дод!», Баба-Калан привлек к себе общее внимание. Но тут же поперхнулся и замолчал. Двое других обреченных с завистью смотрели на шашлык. С завистью безумно голодных людей. Сглатывали судорожно слюну, и кадыки их под кожей, будто маленькие животные, ходили на коричневых шеях, к которым палач уже, видимо, примерял остро наточенное лезвие.
И вдруг... надрывные хрипы, новый стон в толпе: «Убивают!» Глаза шашлычника полны слез, мигают... Но, возможно, их разъедает дым от мангалки. Юноша бессильно роняет шампур с не объеденным шашлыком, слабой рукой бросает монету в глиняную миску... И идет заплетающимися шагами мимо окровавленных трупов. На лице его смятение.
Фаэтон на дутиках неслышно уезжает. Удаляются как-то криво, боком палваны-телохранители. В толстом слое пыли чернеют люди в лохмотьях. Невообразимый запах — смесь пыли, дыма, все еще пузырящейся в пыли крови — мешают дышать.
Трупы казненных долго не убирают. Запрещено! Так они и валяются посреди базара, облепленные мухами. Шарахаются в сторону, хрипло фыркая, кони. Обходят их, тяжело ступая мягкими лапами, верблюды. Огромные ноздри приплюснутых морд тревожно шевелятся. Воробьи ожесточенно чирикают в густых кронах карагачей.
Зной... Напряженная тишина. Бормотанье оглушенного событием базара.
Долго и жадно Баба-Калан пьет в дальней базарной чайхане зеленый чай. Чайник за чайником. Ему никак не удается справиться с судорожным кашлем, похожим на страшную икоту, вызванную доносящимися и сюда запахами горелого плова, дыма кальянов и... все перебивающим запахом свежей крови.
Ненавидящими глазами смотрит он на ворота, на застилаемую нет-нет облачками пыли дворцовую калиточку, на все еще чернеющие на светлой лёссовой пыли черные трупы. Кривятся пухлые губы Баба-Калана, Он шепчет:
— Ай, Мирза, проклятый братец! Ай, судьба! Что ты с несчастными творишь?!
II
Не будь слишком сладким,
Мухи облепят.
Алаярбек Даниаарбек
Товарищи по красногвардейскому полку, вероятно, не узнали бы бойца 2-го отдельного дивизиона в этом батыре, запахнувшем на себе полушелковый халат, подбитый, несмотря на осеннюю жару, ватой. И что удивительно, он нисколько не потел в теплом халате, хоть непрерывно суетился — бежал туда, шел сюда, неустанно о чём-то хлопотал.
— Аллах поможет! Людям с деньгами — шашлык, людям без денег — запах от шашлыка.
Словом, в те дни, когда вся Бухара была в преддверии больших событий, Баба-Калан внешне ничем не отличался от алчных, жадных на деньги мелких дельцов, толкавшихся толпами на пыльной площади перед высоченными воротами эмирской летней резиденции Сито-ре-и-Мохасса Он пленил базарный люд своим увлечением перепелками. Тем самым он сделался любезен и базарному сартарошу, и торговцу мороженым, и степняку казаху, и даже миршабу — полицейскому надзирателю. Мы уж не говорим о старичке Абдуазале-дарваза-боне — главном привратнике дворца Ситоре-и-Мохасса, для которого и перепелки, и певческие и бойцовые, были главным увлечением. Когда же он узрел, что этот добродушный великан, немного смешной своей неуклюжестью, видит в этих маленьких птичках способ развеять «дильтанги» — сердечную торку, что он бережно держит постоянно две пары перепелок в халате у себя под мышками и в рукаве халата и, самое главное, птички никуда от него не пытаются улететь, — вот тогда Абду-азал воскликнул:
«Ты, оказывается, добродушный и сердце у тебя мягкое!» То есть маленькая перепелка проложила дорогу к сердцу грозного дарвазабона, а вместе с тем и в ворота дворца Ситоре-и-Мохасс.а и далее в снятая-святых — в гарем. А всего-то понадобилось добродушному хитрецу извлечь на глазах Абдуазала бойцового петушка стоимостью в одну теньгу, напоить его изо рта и немножко потренировать: заставить попрыгать и попетушиться перед маленьким зеркальцем, чтобы, налетая на стекло, птичка приобрела особую крепость клюва и когтей. Старик пришел в восторг: «О, да ты настоящий знаток перепелок! Да и у тебя не перепелка, а тигр!»
На Востоке похвалить, значит, напроситься на подарок. И Баба-Калан не преминул воспользоваться случаем.
«Слова обещания — умиление сердцу. Подарок — звон золота».
Так дарвазабон Абдуазал стал владетелем прелестного, задиристого петушка. Великолепный бойцовый экземпляр был посажен в клетку, висевшую в клетушке дарвазабона, и развлекал не только своего нового хозяина, но и жен эмира, томившихся за внутренней стеной эндаруна, а Баба-Калан получил право в любое время навещать дарвазабона и, пользуясь этим правом, сделаться завсегдатаем дворца.
Он был простак и любил повторять: «Готов заложить душу иблису». Но от этой и ей подобных клятв он не делался ни грозным, ни страшным.
Нет. Даже рассыпая ругательства и проклиная, он оставался тем же добродушным, нескладным, даже не-много смешным увальнем. Не такой уж привлекательный, на первый взгляд, он был красив лицом, что, не замедлили приметить сквозь щели в калитке эндаруна наиболее бойкие обитательницы гарема. Уголки его глаз, несколько оттянутые вниз, не скрывали живого огня зрачков. Хищно вырезанные ноздри спорили с полными выпяченными губами, застывшими в вечной добродушной усмешке. А когда они раздвигались, ослепительные зубы так озаряли его лицо, что даже самому унылому и подозрительному собеседнику делалось легко па душе. Густой юношеский румянец загорелых щек придавал облику Баба-Калана вид такого «наивняка», что развеивал сомнения самых мнительных прислужников эмира.
Даже миршаб эмира смотрел на него с благосклонной улыбкой.
Одним словом, этот добродетельный, простодушный и неуклюжий батыр благодаря своей наружности не вызывал подозрения у тех, кто в те дни толкался у ворот загородного эмирского дворца. Баба-Калан же быстро определял, что из себя представляют завсегдатаи базарчика.
Времена лихие,
Но мир существует
И не может прекратиться.
Эмир — пока эмир, но прислушайтесь и спросите себя: «Не пора ли?»
«Э, по одному, по одному и тысяча наберется. Сам он знал, чем начинать, но и представления не имел, чем кончать».
За какую-нибудь неделю пребывания возле дворца, на базаре, он почувствовал расположение к себе бедняков-мастеровых и позволял себе, увидев издали оголтелого миршаба — сына тигра, довольно явственно бормотать:
— Эй, ты, сын сожженного отца и развратной блудницы, недолго тебе еще прыгать.
Мелькала фантастическая мысль — поднять батраков в близлежащих селениях, напасть па Ситоре-н-Мо-хаоса всей толпой и выкрасть эмира Сеида Алим-хана.
Но Баба-Калан, по его собственному выражению, «не умел быть иногда вовремя умным» и нередко платился за это. Кроме того, Баба-Калан имел определенное задание от командования — следить за местонахождением эмира и людьми, с которыми встречается эмир, что Баба-Калану сделать было пока почти невозможно. В конечном итоге — при взятии Бухары — не дать эмиру сбежать за рубеж. И ночью, ворочаясь на кошме, он бормотал про себя изречение Шаме ал Меали:
Чему не обучат родители,
Тому обучат день и ночь.
III
Он мог остановить разъяренного быка, ухватив его за хвост. А самого могучего верблюда, повалив, заставлял силой пасть на колени, а если верблюд ему не подчинялся, он одним ударом кулака сбивал его с ног в пыль и песок.
Баба-Калан бил сдержан и аккуратен в еде. Казалось бы, при такой могучей комплекции он должен поглощать огромное количество разнообразной пищи. Но Баба-Калан никогда не обжирался на глазах людей шашлыком у шашлычника. А когда базарчи устраивал «тукма» — посиделки с угощением и, не будем говорить громко, вино же запретно — с выпивкой, то сам Баба-Калан ел мало, а к вину и не прикасался.