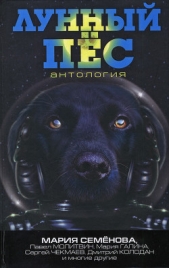Государь всея Руси
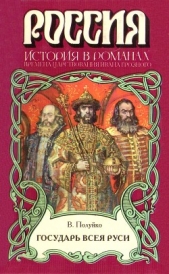
Государь всея Руси читать книгу онлайн
«Таков был Царь; таковы были подданные!
Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться?
Если он не всех превзошёл в мучительстве, то
они превзошли всех в терпении, ибо считали
власть Государеву властию Божественною
и всякое сопротивление беззаконием…»
Н.М. Карамзин
Новый роман современного писателя В. В. Полуйко представляет собой широкое историческое полотно, рисующее Москву 60-х годов XVI в. — времени царствования Ивана Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ходить далеко за ответом Евфросинии не нужно было — она знала, что это не так: у неё имелись давние и прочные связи среди московских бояр, правда, не столь действенные, как ей хотелось бы, но искренние, без лукавства и тёмных вод в облацех, и она ведала, чем дышат они и в каком варятся соку. Их души были открыты ей, и она смотрела в них как в себя. Однако рядом с тем, что их с ней единило, в их душах и умах жило другое, у каждого своё. Вот это самое своё и заставляло их медлить, выжидать, осматриваться, юлить, хитрить... Оно, это своё, пуще всего боялось прогадать, остаться позади, но ещё пуще боялось преждевременно очутиться впереди. Да и разве ж только боялось? А сколько жаждало оно?! Всех сущих на свете благ, должно быть, не хватило бы утолить сию жажду. И всё это было глубинным, коренным, это была крепость на главных рубежах души, крепость, которую защищают неистовей всех остальных, порой — до смертного конца. Была эта крепость и в ней самой — неприступная, неодолимая. Но свою она считала необходимой и полезной, ибо то, чем была полна её душа, нуждалось именно в такой твердыне. Она должна была быть решительней, непримиримей, бесстрашней, мужественней, праведней всех — и не только для себя самой, но и для тех, кто дрогнет, устрашится, разуверится, смирится... И всё это есть в ней — и мужество, и бесстрашие, и стойкость, и непримиримость, — и крепость её, быть может, самая неприступная, но неприступная только для врагов, а для друзей, для союзников она отверста, и каждый из них может войти в неё. Ей же путь в их крепости заказан, и никакими подступами, никакими ухищрениями ей их не взять. Своё превыше и святей всего!
О том же сообщал ей и боярин Щенятев — её дальний родственник по патрикеевской линии и неизменный и давний сообщник по тайным козням против Ивана. Он словно знал, как страдала Евфросиния от скудости вестей из Москвы, и ухитрился переслать ей грамотку. Писал осторожно, не называя имён, не вдаваясь в подробности, местами и вовсе тёмно, намёками, — ни единого лишнего слова не положил на бумагу. Да пришли он совсем чистый лист, Евфросиния и тогда б поняла, что он хотел ей сказать.
Грамотке этой она обрадовалась необычайно. Читала и перечитывала её несколько дней кряду — благо за своё долгое вдовство обучилась грамоте — и вскоре знала её наизусть. Ночами, в бессонной взбудорже, вновь и вновь перебирала в памяти слово за словом, ища что-нибудь ещё, ранее не разгаданное, ускользнувшее от её внимания. Ей казалось, что это неразгаданное как раз и есть самое главное из всего, что стремился сообщить Щенятев, и она снова и снова с ещё большей кропотливостью принималась плести в своей голове самые замысловатые кружева.
Щенятев писал в грамотке, что первая пороша — не санный путь и она не торопилась бы закладывать лошадей, ибо лошади с норовом, в одной упряжке ходить не приучены, — и она понимала: Оболенские пока в одиночестве, другие их не поддержали, не поддержат и её, и пусть она не торопится перезывать их на свою сторону. Не время, выходит, ещё!
«Как раз и время! — возмущалась Евфросиния. — Лучшего уж не выждать. Огонь занялся, нужно его раздувать, а не ждать, покудова он сам разгорится. Сам он не разгорится. Ивашка его пригасит, затопчет».
Собой была довольна: не сидит сложа руки, не уповает на журавля в небе и не обжидается ещё каких-то (каких уж?!) пущих времён. Может, они и будут, и наступят когда-нибудь те времена — самые лучшие, самые благоприятные, но ей уж ждать невмоготу. Да и дождётся ли она? Век человеческий короток, и где ей положен предел — неведомо. Она своё отождала. Теперь — пора действовать! Теперь или уж никогда!
Щенятев и сам намекал ей на это и обращал её взор в иную сторону от Москвы — туда, где есть «кони похутче, нежели московские златокованые иноходцы». Знала она, где водятся эти кони и из какой реки пьют они воду, — из Волхова.
И опять воздала себе: без подсказок, сама, и давно уже, обратила туда свой взор. Правда, не всё пошло так, как задумывалось. Дмитрий Куракин по-своему повернул дело. Она и сама было засомневалась, но теперь все сомнения отброшены прочь. Помрёт Макарий, не помрёт, станет Пимен митрополитом, не станет — это теперь не имело для неё никакого значения. Она рассудила так: чем раньше придёт к Пимену её грамота, тем с большим доверием отнесётся он к ней и тем, быть может, быстрей удастся наладить с ним отношения, Л принять грамоту он примет! И доносить не станет! Она всё взвесила, всё продумала: не станет, потому что ему твёрдо, через крестное целование, будет обещано святительское место, и в случае успеха он его получит, а вот получит ли он это место от Ивана, даже за такую великую цену, как предательство, — этого Пимен не знает в не будет знать до самой последней минуты. А раз не будет знать, то и торопиться не будет: выждет, посмотрит, куда всё поворотится и к чему придёт, а обещание её придержит про запас — вдруг оно окажется последней и единственной возможностью взойти на святительский престол. А уж потом, что бы там ни случилось и как бы всё ни обернулось — даже если Иван и сделает его митрополитом, — доносить станет уже опасно, ибо каждый день промедления будет работать против него самого.
Евфросиния всё взвесила, всё продумала: не станет Пимен митрополитом, значит, будет с ней, а и станет — всё равно будет с ней, потому что нить, которая свяжет их, неразрываема. Избавиться от неё, покуда они живы и покуда жив Иван, почти невозможно — ни ей, ни ему. Но если для Пимена эта нить — путы, то для неё — вожжи, которыми она возьмётся управлять им. Правда, Евфросиния не обольщалась мыслью, что самому Пимену это будет непонятно, и не рассчитывала на это, да и не облукавить его она стремилась. Она знала, чем это чревато, и если сама готова была пойти на всё, не щадя даже жизни, то от других хотела единственного — чтоб понимали, на что идут, чтоб шли сознательно, влекомые своим, присным, а не чужим обманом, который всегда можно одолеть новым, более искусным и который, как и подкуп, всегда палка о двух концах. Того же самого она хотела и от Пимена (от него особенно!) и рассчитывала, что он сознательно станет на её сторону. Её посулы должны были только разбередить, подстегнуть, взмутить в нём то самое своё, присное; а у него имелись собственные счёты с Иваном. И крупные счёты! Кто-кто, а уж Пимен претерпел от Ивана немало. Не камень — глыба лежала в его душе! И вот эта глыба, а не её посулы, должна была склонить Пимена на её сторону. Она знала, как сильно в человеке чувство мести, — не то, слепое, яростное, окровавленное чувство, которое накатывается в первые мгновения после нанесённых обид и оскорблений, а то, что незримо тлеет в душе долгие годы, тлеет и не истлевает, — и вот это чувство способно толкнуть человека на что угодно, заставить его презреть любые опасности, даже смерть. Сама она давно презрела ee! А ведь её чувство могло и не быть самым сильным. Она допускала, что сила этого чувства мало зависит от степени причинённого зла. Одно-единственное бранное слово может заронить в душу такую обиду и такое чувство мести, что все силы земные и небесные померкнут перед ним. Всё зависит от того, какая душа, каков человек! Евфросинии казалось — Пимен из таких. На это она и рассчитывала.
Мысль о Пимене была главной. Но вместе с тем Евфросиния уже давно и неотвязно думала ещё об одном человеке, который сейчас томился в ссылке на Белоозере, — о князе Михайле Воротынском. В нём она тоже подозревала такую душу. Должно быть, то же самое подозревал и Иван, ибо уж очень странной была ссылка князя; как будто не за провину наказывал его Иван, а за свой страх перед ним.
Видать, о нём же, о Воротынском, намекал Евфросинии и Щенятев, писавший о доблестном муже, «в изгон пострадавшем, который умом вельми мног и ратному делу искушён превыше всех». Евфросиния поначалу посетовала было на Щенятева, что он написал ей такое о Воротынском, как будто она сама не ведала, что князь Михайло лучший на Москве воевода, но потом поняла: Щенятев хотел обратить её внимание именно на это достоинство Воротынского — на его искушённость в ратных делах, которая — как знать?! — могла очень даже пригодиться. Но для этого — уже сама домысливала Евфросиния — нужно сделать так, чтобы в урочный час воеводу можно было вызволить из застенков Кирилловского монастыря. Дело это, правда, было не простое, но уж если Евфросиния задумывала поднять Новгород, то ничто уже не могло её смутить.