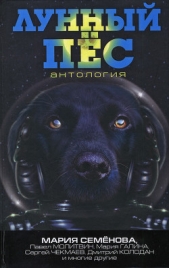Государь всея Руси
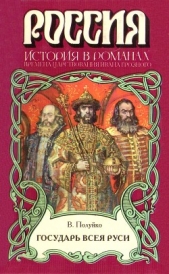
Государь всея Руси читать книгу онлайн
«Таков был Царь; таковы были подданные!
Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться?
Если он не всех превзошёл в мучительстве, то
они превзошли всех в терпении, ибо считали
власть Государеву властию Божественною
и всякое сопротивление беззаконием…»
Н.М. Карамзин
Новый роман современного писателя В. В. Полуйко представляет собой широкое историческое полотно, рисующее Москву 60-х годов XVI в. — времени царствования Ивана Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Может быть, вера Евфросинии в способность Челяднина поднять Москву и не была уж так крепка, как она стремилась показать Марфе, — всё-таки времена переменились: Иван уже не был мальчишкой, и власть держал в руках прочно; да и не против Ивана действовал тогда Челяднин — против Глинских, но что Челяднин мог очень многое — в этом Евфросиния не сомневалась. Не знала она только, как обратить это всё челяднинское себе на пользу, как сблизиться с боярином, как и чем залучить его в свой стан. Однажды он уже не поддержал её! Тогда, во время великой Ивановой хвори, он одним из первых присягнул царевичу Дмитрию и иных уговаривал сделать то же самое. Странно вёл себя боярин: сам — восставал против Ивана, противился, враждовал, а когда восставали другие — поддерживал Ивана. Не получится ли так и сейчас?
Евфросиния сказала об этом Марфе, и та, подумав, ответила:
— То верно, у него что-то своё на уме. По чужой мысли не ходит и чужой страстью не мается. Своего вдосталь! Я так мню: он за правду, токмо за какую-то свою, особливую...
— Что-то вельми много у нас на Руси правд развелось, — осердилась Евфросиния. — У каждого своя, будто правда — что кафтан. А правда одна, едина! Вот она — в святом углу! И у меня нет иной правды, опричь сей... Ежели боярин також движется сей правдой, то стези наши рано иль поздно пересекутся. Не будет он моим врагом, не будет! Верую!
— Дал бы Бог, матушка!
— А что не поддержал он меня тогда, так в том не супротива, не вражда на меня была причиной. Ивашка помирал, и он думал, что зло пресечётся само собой. Так думал не он один. Так думали тогда многие и радовались, что Божья воля, каравшая Ивашку, освобождала их от греха клятвопреступления. Присягая Дмитрию, они на самом деле отрекались от Ивашки, не преступая своей совести. Присягнуть Володимеру им было тяжче! Но ведай они, что Ивашка не помрёт, они б присягнули Володимеру, и Ивашка б лишился престола. Кто был тогда за него? Одни лише Захарьины да совесть таких, как Челяднин. К нему и нынче не прибыло... Всё те же Захарьины да всегнусный Басманов, от приблужения рождённый, с сыном своим непотребным. Да писаря... [73] А опроче — не вижу! Нету теперь во всей вселенной никого, кто положил бы душу за него. Сердце моё, разум мой, боль моя вещают: нету!
3
С тех пор как на Москве возроптали княжата Оболенские, вести о «московских делех» стали для Старицы нужней света белого. Денно и нощно бдела она о тех вестях, исхлопоталась, исколготилась, собирая их. По словечку, по слушку собирала, не чураясь ничем, даже домыслами, даже вралитиной.
А вести были разные. Ямщики говаривали:
— Шало на Москве!
Послухи Евфросиньины, наряженные во все ближние ямы [74], не допытывались, что значит — шало? Тишком мотали на ус ямщицкие перебирушки. Но и без расспросов было ясно: неспокойно в Москве.
Купцы жаловались:
— Убытчит Москва! На каждом углу мытник [75]. На рубль продашь, а издержишься на пошлинах на двадцать копейных.
Иногда с опаской прибавляли:
— А и на рубль не продашь: исхудал народ... Война. Поборы.
Калики перехожие, нищие, странники-богомольцы, бредущие от города к городу, от монастыря к монастырю, воскручинивались:
— Отложились московиты от Бога! Чадь простородная кости мечет, и глумы деет [76], и в корчмах опивается до обумерствия, бои кулачные учиняет великие, и смертного убойства много живёт в тех играх, и многие без покаяния пропадают. А великородные, боярове и вельможи, многими неправдами люд проторят и отщетевают, и никто же не может глас воздвигнути на те их неправды великие!
И тоже, с оглядкой, злосердным шепотком присказывали:
— Да те же боярове и вельможи из крестного целования выступают, тщась восхитити на ся власть, как было уже... И через те их умышления злокозненные грядут на землю нашу скорби великие, занеже, сказывают, государь неукротимым гневом содержим.
О царском гневе говорила вся Москва, и ждала его, и благословляла: бояре и вельможи давно уже переполнили чашу терпения московитов — и те ждали своего часа, чтоб опрокинуть её им на голову. Так что сирые странники передавали именно то, что ходило по Москве из уст в уста, и от себя ничего не домысливали. То была сущая правда!
Евфросинии правда эта не нравилась, но черни она не боялась. Знала: то — как река. Переть против её течения, перегораживать плотиной — опасно! Но ежели заранее подготовить русло — она потечёт туда, куда нужно. Так уже было. В год, когда Иван отгулял свадьбу с Анастасией Захарьиной, случился на Москве великий пожар [77]. Полгорода выгорело с посадами и слободами, выгорело почти всё и в Кремле: сгорели Чудов и Вознесенский монастыри, царский двор, митрополичий, Казённый двор, сгорела Оружейная палата, Постельная — со всей царской казной, погорели церкви, соборы, народу сгорело — тысячи... Такого пожара Москва не знавала никогда!
И закипела, забурлила чернь, выхлестнулась неистовым половодьем на площади и улицы — жутко стало, жутче, чем во время пожара. Но уже было приготовлено русло. Боярин Иван Петрович Челяднин да князь Фёдор Шуйский, приехав к митрополиту Макарию в Новоспасский монастырь, куда его увезли, спасая от огня, стали говорить, что Москва погорела волшебством. Говорили митрополиту, но знали: говорят всей Москве. И верно, уже на другой день понеслась по столице жуткая и ещё более растравляющая молва, что чародеи вынимали человеческие сердца, мочили их в воде, водой той кропили по улицам и домам — оттого Москва и сгорела.
Теперь оставалось главное — направить эту грозную реку по нужному руслу, направить так, чтобы она сделала всё, что хочет и может сделать, но не больше того, что задумано теми, кто приготовил для неё русло.
Сделали и это. Когда царь решил разыскать, отчего Москва погорела (кто-то же присоветовал ему такое!), и бояре, которым это было приказано, приехали на площадь к Успенскому собору и стали спрашивать у собравшихся там чёрных людей, кто зажигал Москву, из толпы закричали:
— Княгиня Анна Глинская с детьми своими волхвовала! Вынимала сердца да в воду клала да тою водою, ездя по Москве, кропила! Оттого Москва и выгорела!
Те, кто кричал это, непременно должны были быть в пособниках — вынимать сердца или, на худой конец, класть их в воду, — иначе откуда они могли знать такое?
Но толпе нет дела до таких тонкостей, и те, кто вложил в уста кричавшим эти слова, тоже знали, что толпа не станет раздумывать о таких вещах, тем паче когда один из Глинских стоит перед ней и сам допытывает: кто Москву зажигал?
Глинских на Москве ненавидели больше всех, и направить на них толпу, обратить на них весь её гнев не стоило большого труда. Достаточно было одного лёгкого толчка, и вся накопившаяся, набродившая ярость толпы обрушилась на них с ужасающей силой. Три дня чернь вымещала злобу на Глинских: разгромила, разграбила их усадьбы, перебила всю дворню, а потом двинулась с рогатинами и дрекольем в село Воробьёве, к самому царю, — требовать, чтоб он выдал им свою бабку Анну Глинскую, которую будто бы прятал у себя в покоях. Но тут уже духу не хватило: за три дня перегорели, выярились, самая матерущая злоба схлынула, а с ней и решительность — и дрогнули, поколебались. Немало поворотило назад... Река превратилась в ручей, и ручей остановили. Настал час расплаты. Много голов послетело с плеч; те, что готовили русло, приготовили и плахи.
Нет, черни Евфросиния не страшилась, и настроения московских низов не волновали её. Её волновали верхи — бояре, княжата, волновала их извечная разобщённость, непреодолимый разлад в их стане. Никогда и ни в чём у них не было согласия, и что бы они ни затевали, что бы ни замышляли — правое иль неправое, во вред ли престолу или на пользу, во что бы ни ударялись — в противу или в угодничество, — во всём у них был разброд, суета и раздор. Вот и сейчас: Оболенские поднялись, а другие осторонь — медлят, выжидают, осматриваются, раздумывают... Что ж, бездумность вредна во всяком деле, а в таком и подавно. С этим Евфросиния соглашалась: бездумный — как слепец, на первой кочке споткнётся. Но неужто ж доселе не случалось задумываться и неужто ж одним Оболенским так невмоготу? Неужто же только их так обозлил и возбудил против себя Иван, а более никто не таит на него ни обид, ни зла, ни праведного гнева? Неужто же все остальные в мире и согласии с ним н по-прежнему готовы терпеть от него всё, что истерпели досель? Неужто же?!