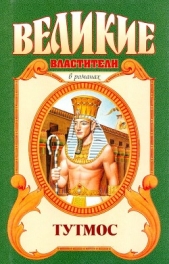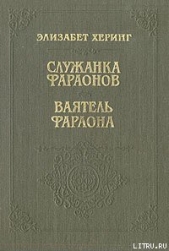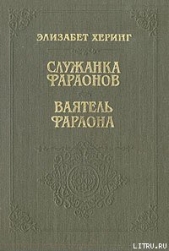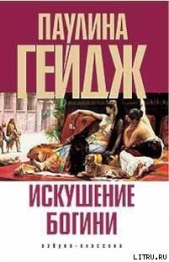Дочь солнца. Хатшепсут

Дочь солнца. Хатшепсут читать книгу онлайн
Царица Хатшепсут была единственной женщиной - полноправным правителем Древнего Египта. Она добилась того, что жрецы признали её фараоном, воплощением бога Гора, на что мог ранее претендовать только мужчина. О её великих замыслах, пути к власти, борьбе с противниками, непредсказуемых поступках, в которых сочетались чисто мужская воля и "странная женская логика", повествует увлекательный роман Элоиз Макгроу, переносящий нас вглубь истории на три тысячелетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Царевич Ненни, полузакрыв глаза, сидел в своих носилках, следовавших через уличную сумятицу сразу за колесницей фараона. Он ощущал себя странным образом обособленным от беснующейся толпы, от всеобщей истерии. Словно непроницаемая прозрачная оболочка накрыла его с головы до ног; сквозь её сияющую стену проникали лишь невнятные звуки, а действительность не проникала вовсе. Эго ощущение изолированности от остального человечества и от самой жизни не было для него новым. Ненни хорошо знал его и выучил его имя. Это была одна из личин его старого врага — лихорадки.
Рано утром, взглянув на двор храма, убранный для новой роли Праздничного двора Великих, он отметил появление этого особого ощущения нереальности. Каким странным выглядел этот двор в сером полумраке, потерявший привычный облик, уставленный необычными старомодными святилищами из тростника, с временным дворцом, занимавшим всю западную сторону. На противоположной стороне широкие двери открывались в крыло храма. Там в большом зале с колоннами, который теперь назывался Праздничным залом, стоял Великий Двойной трон. В предутреннем сумраке казалось, что храм сверхъестественным образом преобразился.
Затем для обряда Возжигания Пламени принесли факелы, порхавшие во мраке как золотые светляки. Ведомые фараоном факелоносцы двигались от алтаря к алтарю; царские штандарты то оказывались на свету, то опять уходили во тьму. Шествие проследовало в Зал Праздника, обогнуло трон и вновь вышло наружу, освещая весь храм, чтобы изгнать последние следы зла или неведомого враждебного присутствия, которые ещё могли в нём оставаться.
Ненни, дрожавший в предрассветной мгле, без труда забыл как о людях, несущих факелы, так и о том, ради чего они бегали взад-вперёд. Его искажённому лихорадкой восприятию казалось, что дымящиеся огненные пятна перемещаются сами собой, собираясь вместе и вновь рассеиваясь, опускаясь и поднимаясь в каком-то странном и загадочном танце. Вокруг него уже образовалась оболочка, он плыл, отделённый от времени и пространства, разглядывая представление, смысл которого не мог уловить. В такие моменты его незванно посещала необыкновенная ясность мысли, соединённая с игрой воображения. Египет представлялся ему тьмой, а все знания человечества — этими мечущимися искрами, которые для безмерной ночи значили не больше булавочного укола.
Охваченный непонятным ужасом, он смотрел, как танцующие искры исчезают, завершив последний круг. Когда в сером сумраке рассвета Ненни забирался в носилки, в его сердце царил холод.
Теперь, часом позже, когда извивающаяся процессия текла по улицам в кристально чистом утреннем свете, солнечный свет омыл всё своим сиянием, множество народа кричало и подпрыгивало в восторге. А Ненни казалось, что они корчат рожи и размахивают руками в гробовой тишине.
«Нет, — думал Ненни, — наш путь озаряет всего лишь несколько факелов — знания лекарей, магия наших учёных...»
Царевич поймал себя на том, что с любопытством изучает новые амулеты, которые лекарь вечером привязал ему на запястье. Это был шнур из семи льняных нитей, сплетённый двумя сёстрами-матерями, завязанный семью узлами. К центру, к точке, где бился его пульс, был привязан золотой крест с петлёй на вершине — анх, иероглиф, обозначающий «жизнь», который должен был крепко привязать его жизнь к телу. Этот новый амулет обладал могущественной магией. У прежнего магия была не слабее, однако он не помог. Если и от этого не будет толку, найдётся много объяснений. Например, хефт [65] развязал узлы... Две матери не были полнородными сёстрами...
Но существовало ещё одно очень простое объяснение — амулеты не содержали никакой силы.
Ненни даже вздрогнул, несмотря на жару. Думать о таких вещах было глупо. Его взгляд медленно переместился вперёд, на царские хоругви, ослепительно сверкавшие в небе. Искры света во тьме? Или, наоборот, ещё более глубокий мрак?
«Не знаю, — думал Ненни. — И никто не знает. Даже эти множества людей, которые орут от страха и радости и целуют землю перед ликами богов, — они тоже не знают. Они могут лишь верить и надеяться. Всю свою жизнь они надеются и трудятся на благо фараона, чья сила является их силой, чьё слово вовремя приводит воды Нила на поля. Они выносят всё ради лучшей доли в загробной жизни. А что, если нет лучшей жизни, нет вообще никакой жизни, кроме этой мучительной юдоли? Тогда фараону следовало бы попытаться облегчить их труд, а не устраивать бесконечные действа для упорядочения Вселенной. Что, если без его помощи и Нил разольётся, и зерно прорастёт так же, как всегда? Что, если он просто человек, как любой другой, не более способный вызвать наводнение, чем этот шалопай, бегущий рядом с носилками? Что, если... Что, если...»
Следом за носилками Ненни несли в кресле царицу Аахмес. Её чеканный профиль сохранял безмятежное выражение среди беснующейся толпы; брови, над которыми нависал клюв золотого венца-сокола, были неподвижны, изогнутый нос гордо направлен вперёд, одна усыпанная драгоценностями рука свесилась с подлокотника, словно не выдержав тяжести всех этих сокровищ. Для народа она была воплощённым совершенством — облечённым в плоть барельефом со стены храма.
Хатшепсут в следующих носилках устремила взгляд на спину золотого сокола и тоже постаралась быть похожей на барельеф со стены храма. Она ощущала ропот и движение поклонявшейся ей толпы как непрерывно повторяющиеся удары, действующие на её органы чувств с силой, которой она не ощущала никогда прежде. Пребывание здесь, в самом сердце народа, было подобно жизни в новой стихии, дыханию новым воздухом, насыщенным всенародным чувством, а это чувство придавало ей сил. Казалось, что даже носильщикам было легче нести на плечах её носилки, увлекаемые вперёд мощным течением подобно кораблю, несомому водами Нила.
«Люди, люди Египта, — продолжала думать она. — Их тысячи — с мозгами, сердцами, чувствами, как и мы. И они мечтают о том, чтобы я управляла ими, я, а не Ненни! Они спорят на улицах, они надеялись и всё ещё надеются! Разве не так он говорил, этот... этот Сенмут?»
Шествие изогнулось, и она уловила далеко впереди отблеск отцовской золотой колесницы. Хатшепсут проглотила комок в горле. «Отец не умрёт, — думала она. — Впереди ещё много времени, ничего не может случиться! Он не выдаст меня замуж сразу, он сам сказал, что для спешки нет причин, что ещё можно найти какой-нибудь выход... Позже, если будет необходимо... Да, я пойду на это, я больше не буду тревожить его, я не хочу, чтобы он болел, как прошлой ночью. Великий Амон! Как ужасно это было!.. А что было бы, если бы я рассказала ему обо всём, что со мной случилось вчера в пустыне? Он долго расспрашивал меня и уже начал догадываться. Нужно было рассказать. Я ведь знаю, что могу сказать ему всё... Но совершенно необъяснимо, как я смогла вынести это. Чтобы меня так касался простолюдин, кажется, назвавший себя архитектором! Эти его руки — они впились в мои плечи как когти! И его жёсткие губы...» Это воспоминание заставило её вздрогнуть от удовольствия. Она поспешно прикрыла глаза, слегка вздёрнула подбородок и рассеянно улыбнулась в пространство, подражая примеру своей безукоризненной матери.
«Хватит думать о нём, — приказала себе царевна. — Ты никогда больше не увидишь этого человека».
Затем ей в голову пришла другая мысль. «Никогда больше не увижу? Но ведь он здесь, в Фивах, и все эти пять дней Хеб-Седа он будет во Дворе и зданиях храма, там же, где и я. Неужели мы можем не встретиться лицом к лицу?»
Хатшепсут неожиданно охватило такое сильное и незнакомое чувство, что её руки вцепились в подлокотники кресла. «Что это? — подумала она. — Что я чувствую? Это гнев или возмущение? Или стыд от того, что он увидит меня, узнает меня, узнает, что он сделал. Неужели я оставлю ему жизнь, несмотря на всё это? Почему я должна оставить его в живых? Я могу схватить его в течение нескольких часов... А может быть, он всё-таки не узнает меня? Эти грязные тряпки... хороша, наверно, я в них была. Нет, конечно, он меня не узнает...»