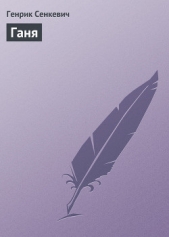Генрик Сенкевич. Собрание сочинений. Том 8

Генрик Сенкевич. Собрание сочинений. Том 8 читать книгу онлайн
В восьмой том Собрания сочинений Генрика Сенкевича (1846—1916) входит исторический роман «Quo vadis» (1896).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пизон поплатился за заговор своею головой, за ним последовали Сенека и Лукан, Фений Руф и Плавтий Латеран, и Флавий Сцевин, и Афраний Квинциан, и распутный товарищ императоровых бесчинств Туллий Сенецион, и Прокул, и Арарик, и Авгурин, и Грат, и Силан, и Проксум, и Субрий Флав, когда-то всею душою преданный Нерону, и Сульпиций Аспер. Одних сгубило собственное ничтожество, других — трусость, некоторых — богатство, иных — смелость. Напуганный числом заговорщиков, император оцепил городские стены солдатами и держал город словно бы в осаде, каждый день посылая центурионов со смертными приговорами в дома подозреваемых. Приговоренные еще унижались в раболепных письмах, благодарили императора за приговор и завещали ему часть своего имущества, чтобы остальное сохранить для детей. Можно было подумать, что Нерон умышленно переходит все границы, желая убедиться, до какой степени дошло падение и как долго люди будут выносить его кровавое владычество. Вслед за заговорщиками казнили их родных, друзей и даже просто знакомых. Обитатели великолепных, после пожара сооруженных домов, выходя на улицу, могли быть уверены, что увидят череду похоронных процессий. Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домиций погибли, обвиненные в недостаточной любви к императору; Новий Приск — из-за того, что был другом Сенеки; Руфрия Криспина лишили права на огонь и воду за то, что он был когда-то мужем Поппеи. Великого Тразею сгубила его добродетель, многие поплатились жизнью за благородное происхождение, даже Поппея стала жертвой минутной вспышки Неронова гнева.
А сенат пресмыкался перед свирепым владыкой, воздвигал в честь его храмы, давал обеты за его голос, увенчивал его статуи и, как богу, назначал ему жрецов. С трепетом в душе отправлялись сенаторы на Палатин восхвалять пенье «Периодоникия» и вместе с ним безумствовать на оргиях среди обнаженных тел, вина и цветов.
А между тем где-то внизу, из почвы, пропитанной кровью и слезами, тихо, но неуклонно подымались всходы посеянных Петром семян.
ГЛАВА LXXIII
Виниций — Петронию:
«Мы и здесь, carissime, знаем, что творится в Риме, а чего не знаем, о том сообщают нам твои письма. Когда бросаешь камень в воду, волны расходятся кругами все дальше и дальше, подобная волна безумия и злобы дошла с Палатина даже до нас. По пути в Грецию тут побывал посланный императором Карринат, который ограбил города и храмы, чтобы пополнить опустевшую казну. Ценою пота и слез людских в Риме сооружается Золотой дворец. Возможно, что мир еще не видывал такого дома, но не видывал он и подобных бесчинств. Ведь ты Каррината знаешь. Вроде него был и Хилон, пока не искупил свою жизнь смертью. Однако до ближайших к нам селений люди Каррината не добрались — быть может, потому, что здесь нет ни храмов, ни сокровищ. Ты спрашиваешь, чувствуем ли мы себя в безопасности. Скажу одно: о нас забыли, и пусть это будет тебе ответом. В эту минуту из портика, в котором я пишу тебе, я вижу наш тихий залив, а на нем — Урса в челне, опускающего невод в светлую воду. Моя жена рядом со мною прядет красную шерсть, а в садах, под сенью миндальных деревьев, поют песни наши рабы. О, carissime, какой тут покой, какое полное забвение былых тревог и горестей! Но не Парки, как пишешь ты, прядут сладостную нить жизни нашей, это Христос благословляет нас, возлюбленный наш бог и спаситель. Скорбь и слезы нам не чужды, ибо учение наше велит оплакивать горе ближних, но даже в слезах этих таится вам неведомое утешение — мы уповаем, что, когда истечет срок жизни нашей, мы встретим вновь всех дорогих нам погибших и тех, кому за истину божью еще предстоит погибнуть. Петр и Павел для нас не умерли, но родились в славе. Души наши видят их, и, когда глаза плачут, сердца наши веселятся их веселием. О да, дорогой мой, мы счастливы таким счастьем, над которым ничто не властно, ибо смерть, для вас конец всего, будет для нас лишь переходом к еще более безмятежному покою, более великой любви и блаженству.
Так и текут наши дни и месяцы в сердечном согласии. Наши слуги и рабы, подобно нам, веруют в Христа, он же заповедал любовь, вот мы все и любим друг друга. Нередко при заходе солнца или в час, когда луна уже серебрит воды, мы говорим с Лигией о прежних временах, которые нам теперь кажутся сном, и, когда я думаю, что эта любимая головка, которую я каждый день баюкаю на своей груди, была так близка к мукам и гибели, я всею душой восхваляю моего господа, ибо он один мог ее вырвать из тех лап, спасти на самой арене и возвратить мне навсегда. О Петроний, ты же видел, сколько утешения и стойкости в бедах дает наше учение, сколько терпения и мужества перед лицом смерти, так приезжай, погляди теперь, сколько дает оно счастья в обычном, будничном течении жизни. Видишь ли, люди доселе не знали бога, которого можно любить, потому и сами друг друга не любили, отчего были несчастливы, ибо как свет исходит от солнца, так и счастье исходит из любви. Этой истине не научили ни законодатели, ни философы, ее не было ни в Греции, ни в Риме, а если я говорю «в Риме», это значит — на всей земле. Сухое, холодное учение стоиков, к которому влекутся люди добродетельные, закаляет сердца, как стальные мечи, но скорее делает их равнодушными, чем улучшает. Однако зачем я говорю это тебе, который больше меня учился и больше понимает? Ведь ты также знал Павла из Тарса и не раз подолгу беседовал с ним. Как же тебе не знать, что рядом с истиной, которую он проповедовал, все учения ваших философов и риторов — мыльные пузыри, пустые, ничего не значащие слова. Помнишь, как он задал тебе вопрос: «А если бы император был христианином, разве не чувствовали бы вы себя в большей безопасности, более уверенными во владении тем, чем владеете, чуждыми тревог и спокойными за завтрашний день?» Ты возражал ему, говоря, что наше учение — враг жизни, я же теперь отвечу тебе, что, если бы я с начала моего письма только повторял два слова: «Я счастлив!», я и то не сумел бы выразить тебе полноту моего счастья. Ты на это скажешь, что мое счастье — Лигия! Да, дорогой мой! И это потому, что я люблю ее бессмертную душу и что оба мы любим друг друга во Христе, а в такой любви нет ни разлук, ни измен, ни перемен, ни старости, ни смерти. Когда уйдут молодость и красота, когда тела наши увянут и придет смерть, любовь останется, ибо останутся теми же души. До того как глаза мои открылись для света, я ради Лигии готов был поджечь собственный дом, а теперь я говорю тебе: нет, я ее не любил, любить научил меня только Христос. В нем — источник счастья и покоя. И это говорю не я, но сама жизнь. Сравни ваши пронизанные тревогой наслажденья, ваши восторги, таящие неуверенность в завтрашнем дне, ваши оргии, подобные поминальным пиршествам, сравни их с жизнью христиан, и ты получишь готовый ответ. Но чтобы сравнивать более основательно, приезжай в наши благоухающие чабрецом горы, в наши тенистые оливковые рощи, на наши увитые плющом берега. Тебя ждет тут покой, какого ты давно не ведал, и искренне любящие сердца. Душа у тебя благородная, добрая, ты должен быть счастлив. Быстрый твой ум сумеет распознать истину, и, распознав, ты ее полюбишь — можно быть ее врагом, как император или Тигеллин, но быть равнодушным к ней никто не сумеет. О мой Петроний, мы с Лигией тешим себя надеждой увидеть тебя вскорости. Будь здоров, счастлив и приезжай к нам».
Петроний получил письмо Виниция в Кумах, куда приехал вместе с прочими августианами, сопровождавшими императора. Его долголетняя борьба с Тигеллином подходила к концу. Петроний уже знал наверняка, что проиграет, и причина была ему понятна. Император с каждым днем все чаще опускался до роли комедианта, шута и возницы, все глубже погрязал в болезненном, гнусном, скотском разврате, и утонченный арбитр изящества становился для него только бременем. Даже когда Петроний молчал, Нерон видел в его молчании укор; даже когда он хвалил, чувствовал издевку. Блестящий патриций раздражал самолюбие Нерона и пробуждал зависть. Богатства Петрония, принадлежавшие ему великолепные произведения искусства разжигали алчность и властелина, и всесильного фаворита. Петрония покамест щадили ввиду предстоявшей поездки в Ахайю, где его вкус, его понимание греческой жизни могли пригодиться. Но Тигеллин исподволь внушал императору, что Карринат превосходит Петрония вкусом и знаниями и сумеет лучше устроить в Ахайе игры, приемы и триумфы. С этой минуты Петроний был обречен. Однако послать ему приговор здесь, в Риме, не решались. И император, и Тигеллин помнили, что этот изнеженный эстет, «делающий из ночи день», поглощенный наслажденьями, искусством и пирами, будучи проконсулом в Вифинии, а затем консулом в столице, выказал поразительную деловитость и энергию. Его считали способным на все и знали, что в Риме он пользуется любовью не только народа, но даже преторианцев. Никто из приближенных императора не брался предсказать, как поступит Петроний в таких обстоятельствах, — посему сочли более разумным выманить его из города и нанести удар, когда он будет в провинции.