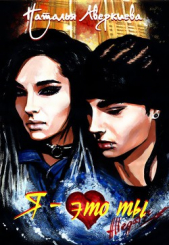Ганя
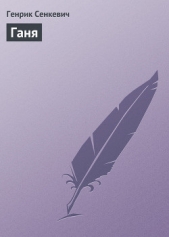
Ганя читать книгу онлайн
Генрик СЕНКЕВИЧ ГАНЯ
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Генрик Сенкевич
Ганя
I
Когда умер старый Миколай, доверив моему попечению и совести Ганю, мне было шестнадцать лет; она же была почти на год младше меня и тоже едва вышла из детского возраста.
Чуть не насильно я увел ее от смертного одра деда, и мы вместе пошли в нашу домовую часовню. Она была отперта; перед старинным византийским образом богоматери горели две свечи, скудно освещая погруженный во мрак алтарь. Мы встали рядом на колени. Убитая горем девочка, изнемогая от слез, бессонных ночей и скорби, склонила ко мне на плечо свою бедную голову, и так мы молча стояли. Время было позднее; в зале, смежной с часовней, на старинных гданьских часах кукушка хрипло прокуковала два пополуночи; в часовне царила глубокая тишина, нарушаемая лишь завыванием метели, сотрясающей свинцовые переплеты окошек, да горестными вздохами Гани. Я не смел молвить ей ни слова в утешение и только прижимал ее к себе, как будто уже был ее опекуном или старшим братом. Однако молиться я не мог: тысяча впечатлений и чувств всколыхнули мое сердце; разнообразные картины мелькали перед моими глазами, но понемногу из этого хаоса все явственней выступала одна мысль, одно чувство — что это бледненькое личико с закрытыми глазами, прильнувшее к моему плечу, что это маленькое, бедное, беззащитное существо становится теперь моей любимой сестрой, за которую я готов отдать жизнь, а если потребуется, брошу перчатку всему миру.
Тем временем подошел меньшой брат мой Казик и опустился на колени позади нас, потом явился ксендз Людвик и несколько человек дворовых. По заведенному в доме обычаю, стали читать «Отче наш». Ксендз Людвик молился вслух, а мы повторяли за ним и хором читали акафисты, между тем как с образа кротко глядел на нас темный лик богоматери с двумя сабельными рубцами на щеке; казалось, она принимала участие в наших семейных тревогах и горестях, в наших удачах и неудачах и благословляла всех собравшихся у ее ног. В конце богослужения, когда ксендз Людвик, поминая усопших, за которых мы всегда молились, назвал имя Миколая, Ганя снова громко разрыдалась, а я тихо поклялся в душе свято соблюдать обязанности, возложенные на меня покойником, хотя бы мне пришлось это делать ценой величайших жертв. То был обет экзальтированного юноши, не понимающего, ни как могут быть тяжелы эти жертвы, ни как велика взятая им на себя ответственность, но не лишенного благородных душевных порывов и пылкой чувствительности.
Помолившись, мы все разошлись на покой. Я приказал ключнице, старухе Венгровской, проводить Ганю, но не в гардеробную, где она прежде ютилась, а в комнатку, в которой она теперь должна поселиться, и там остаться с ней на ночь, а сам, нежно поцеловав сиротку, отправился во флигель, называвшийся у нас в доме «мужской половиной», где я жил вместе с Казиком и ксендзом Людвиком. Наскоро раздевшись, я улегся в постель. Я любил Миколая и искренне горевал о нем, но, несмотря на это, чувствовал себя почти счастливым и гордился своей ролью опекуна. Меня возвышало в собственных глазах то, что я, шестнадцатилетний мальчик, должен был стать опорой для слабого и несчастного создания. Я чувствовал себя мужчиной. «Твой панич и господин, почтенный старец, не обманет твоих надежд, — думал я, — спи спокойно в могиле: ты отдал в верные руки будущее своей внучки». Действительно, я был спокоен за будущее Гани. Мысль о том, что со временем Ганя вырастет и что нужно будет ее выдать замуж, в ту пору не приходила мне в голову. Я думал, что она навсегда останется при мне, окруженная заботами, как сестра, и любимая, как сестра, и что, возможно, ей будет тут грустно, но спокойно. По искони установившемуся обычаю, старший сын получал в наследство впятеро больше, нежели младшие дети; и хотя в роду у нас не было узаконенного майората, младшие сыновья и дочери уважали этот обычай и никогда не восставали против него. Я был старшим сыном в семье, и, следовательно, большая часть имения должна была в будущем перейти ко мне, поэтому уже гимназистом я смотрел на него как на свою собственность. Отец мой принадлежал к числу наиболее состоятельных помещиков в округе. Правда, род наш никогда не отличался роскошью магнатов, но у нас было то изобилие, тот старошляхетский достаток, который давал вволю хлеба и обеспечивал до смерти привольное и зажиточное существование в родном гнезде. Таким образом, я рассчитывал, что буду относительно богат, и потому спокойно взирал как на свое будущее, так и на будущее Гани, зная, что, какая бы участь ее ни ждала, у меня она всегда найдет тихий угол и поддержку, если в них будет нуждаться.
С этими мыслями я уснул. На другой день я начал с утра претворять в действие вверенную мне опеку. Но как смешно и по-детски я это делал! И все же сейчас, вспоминая об этом, я не могу не поддаться чувству умиления. Явившись с Казиком к завтраку, мы уже застали за столом ксендза Людвика, мадам д'Ив, нашу гувернантку, и двух моих маленьких сестричек, которые сидели, как всегда, на высоких тростниковых креслицах, болтая ножками и весело щебеча. С необыкновенной важностью я уселся на место отца, окинул стол взглядом диктатора и, обернувшись к лакею, проговорил, сухо и повелительно:
— Прибор для панны Ганны!
Слово «панна» я умышленно произнес с особым нажимом.
Доселе этого никогда не бывало. Ганя всегда ела в гардеробной, и хотя мать моя хотела, чтобы она сидела за столом вместе с нами, старик Миколай не позволял ей, упорно твердя: «Ни к чему это; пусть учится почитать господ. Еще чего!» Теперь я вводил новый обычай. Милейший ксендз Людвик улыбался, замаскировав улыбку понюшкой табаку и фуляровым носовым платком; француженка, которая происходила из старинного дворянского рода и потому держалась аристократкой, несмотря на свое доброе сердце, поморщилась, а лакей Францишек широко разинул рот и с изумлением уставился на меня.
— Прибор для панны Ганны! Ты слышал? — повторил я.
— Слушаюсь, ваша милость, — ответил Францишек, на которого мой тон, по-видимому, произвел должное впечатление.
Сейчас я могу признаться, что и «его милость» с трудом подавил довольную улыбку, появившуюся на его устах, когда его впервые в жизни наградили этим титулом. Однако важность, преисполнившая «его милость», не позволила ему улыбнуться. Между тем прибор через мгновение был подан, дверь отворилась, и вошла Ганя в черном платье, которое ей за ночь сшили горничная и старуха Венгровская; она была очень бледная, следы слез еще заметны были на ее глазах, а длинные золотые косы, сбегавшие вдоль платья, на концах были повязаны лентами из черного траурного крепа, вплетенными в золотистые волосы.
Я поднялся и, подбежав к ней, проводил ее к столу. Мои старания и вся эта пышность, казалось, только конфузили, стесняли и удручали девочку; но тогда я еще не понимал, что в минуты печали тихий, укромный, уединенный уголок и покой ценнее шумных дружеских излияний, хотя бы они были продиктованы самыми благими намерениями. И я терзал Ганю из самых добрых побуждений, навязывая ей свою опеку и полагая, что превосходно справляюсь со своей задачей. Ганя молчала и лишь время от времени отвечала на мои вопросы о том, что она будет есть и пить.
— Ничего, благодетель панич.
Меня больно поразило это «благодетель панич», тем более что прежде Ганя держала себя со мной свободно и называла меня просто «панич». Но именно та роль, которую я играл со вчерашнего дня, и особые условия, в которые я поставил Ганю, были причиной теперешней ее робости и смирения. Тотчас после завтрака я отвел ее в сторону и сказал:
— Запомни, Ганя, что с этого дня ты стала моей сестрой. И отныне никогда не называй меня «благодетель панич».
— Хорошо, благоде… хорошо, панич.
Странное у меня было положение. Я расхаживал с ней по комнате, но не знал, о чем говорить. С радостью я стал бы ее утешать, но для этого пришлось бы напомнить о Миколае и его смерти, а это бы вновь привело к слезам и вызвало новый приступ горя. Кончилось тем, что мы оба уселись на низенькую софу в конце комнаты: девочка снова положила мне головку на плечо, а я принялся гладить ее золотые волосы.