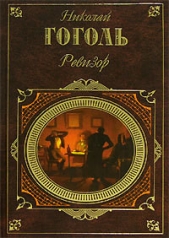Совесть. Гоголь
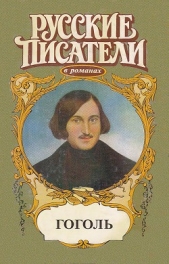
Совесть. Гоголь читать книгу онлайн
Более ста лет литературоведы не могут дать полную и точную характеристику личности и творчества великого русского художника снова Н. В. Гоголя.
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но я не хочу, не могу, не умею писать для своей приятности только. Я оттого хочу поглядеть на русского человека, что убеждён: когда его попотчую им же самим, тогда одумается русский человек непременно, пусть зарыдает навзрыд, пусть закорчится в муках и в ярости оскорбления, от чего там ещё, это дело его, лишь бы узрел наконец, что прегадко живёт, что живёт как свинья, как уж чуть ли нигде не живут, — лишь тогда смогу показать, как должен жить человек в самом деле.
Лицо Пушкина сморщилось, как рожа смеющейся обезьяны. Пушкин скоро, легко, как танцуя, прошёл по столовой, вдруг вскочил на узкий диванчик, притиснутый к дальней стене, и сел по-турецки, с ногами, поджав ступни под себя, но в голосе прозвучало тоскливое сожаленье:
— Ах, Гоголь, Гоголь, голубчик, не отпускай тень Гамлета от себя! «Век вывихнул колено, и скверней всего, что я рождён восстановить его...» Погиб бедный принц, весьма глупо погиб, а колено-таки осталось невправленным, уже на обе ноги под всеми небесами захромал человек. Так побойся его горестной участи. Много чувств — мало мудрости. Беда костоправам!
Ему хотелось почтительно промолчать, однако сил недостало думать об этом и следить за непонятными похожденьями брусничного фрака, что-то схожее с мерзким чертёнком вылепилось из смятого мякиша, он не мог сдержаться и глухо напомнил, старательно выделяя слова:
— Что человек, когда озабочен одним только сном и едой? Животное, скот. Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной, глядящей вспять и вперёд, вложил в нас разум богоподобный не для того, чтобы в праздности плесневел он.
Мысль эта Пушкина искренно огорчила, лицо сделалось страшно серьёзным, а в голосе замешались сердечная теплота и досада.
— С жеманной метафизикой пора покончить. Пора посерьёзней думать о роли нашего разума. Разум нам дан, чтобы познать этот мир, однако не более. Познать пороки свои — ещё вовсе не значит от них отвязаться. Выучить пороки истории — ещё вовсе не значит овладеть и силой выправить их. История и пороки даны нам нашими предками. Предки, как умели, наживали нашу историю и наши пороки тысячу лет, а ты мнишь переделать историю и пороки одним своим сочиненьем?
Он сознавал, что Пушкин говорит для него одного, совершенно позабыв о себе, пытаясь его остеречь, и был от души благодарен ему, однако не в силах был с ним согласиться. Согласись он с мудростью Пушкина — и весь смысл жизни его распадётся, растает, улетит на клочки. В нём копились слёзы и злость. Он двумя пальцами стиснул головку чертёнка, задвигал ими сильней, мерзкий чертёнок размазывался, от этого отчего-то становилось досадно, и он с тихой дрожью напомнил, не догадываясь удержать свои пальцы:
— Однако же вы учили дерзать.
Сверкнув глазами, Пушкин потянулся вперёд:
— В творчестве, но не в истории. Человек свободен, лишь созидая. История нисколько ему не подвластна. У нас мрачное настоящее, это справедливо сказать, однако же мрачно оно оттого, что было мрачно наше прошедшее. Россия долго оставалась чуждой Европе. Приняв христианство от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-католических стран. Великая эпоха Возрождения не имела на неё никакого влияния, рыцарство не одушевляло наших предков восторгами, и потрясение, произведённое крестовыми походами, не отозвалось на краях оледенелого Севера. России определено было иное предназначенье. Как можно это всё в один миг переделать?
Он сумрачно возразил:
— У нас тоже слышались времена богатырства.
Пушкину не сиделось на месте, Пушкин задвигался беспокойно, выдернул ноги из-под себя, раскинул руки по краю дивана, выставил курчавую голову, обнажив бугорок кадыка, однако лицо его просветлело, так что арапская желтизна на нём сделалась почти неприметной.
Он осмелел, глядя в чудесное это лицо:
— Наше богатырство европейскому рыцарству не уступало во времена Мономаха, и на поле Куликовом, и в Сечи.
Пушкин подхватил с горделивым восторгом, будто сам покрывал себя славой в тех богатырских наших делах:
— Кто же спорит против нашего богатырства? Наши равнины поглотили силу монголов, мы остановили нашествие на границе Европы. Эти варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощённую Русь и возвратиться в степи Востока. Образующееся просвещение было спасено истерзанной Русью. Но...
Тут голос Пушкина сделался глуше:
— Мы-то на сколько остановились веков? Духовенство, пощажённое сметливостью татар, одно в течение двух мрачных столетий продолжало питать бледные искры нашей глухой образованности. В безмолвии монастырей бедные иноки вели беспрерывную летопись, архиереи в посланиях беседовали с князьями, утешая в тяжёлые времена, но внутренняя жизнь народа не могла развиваться.
Пушкин уже не волновался, не судил, точно восприняв в себя суровую мудрость веков, и голос его звучал рассудительно, мирно:
— Татары не походили на мавров. Завоевав Россию, они не подарили ни алгебр, ни Аристотеля [88]. Свержение ига, споры великокняжества с уделами, единовластия с вольностями городов, самодержавия с боярством и завоевания с народной самобытностью не благоприятствовали свободному развитию просвещения. Европа была наводнена множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и прочего, а старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют почти никакой пищи любопытству нынешних изыскателей.
Глядя на руки вниз, он снова скатывал шарик из мягкого мякиша. Брусничный фрак почти позабылся. Он следил с удивлением и восторгом, как легко входил Пушкин в чужие эпохи и страны, будто жил всюду во все времена и создал их своими руками. Он сам давно и серьёзно занимался историей, неплохо изведал иные эпохи, от Пушкина же такого рода проникновенья отчего-то не ждал, и было странно подумать, что Пушкин мог ошибаться в быстрых заключеньях своих. Об этом и думать он не хотел. Он скорей согласился бы не поверить себе.
Пушкин же взволнованно продолжал:
— Ты только подумай: с места нас сдвинул Пётр, Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора, при громе пальбы, но далеко ли мы, имея за плечами глухую историю, продвинулись в полтора-то столетия, и знает ли кто, сколько столетий станем мы изживать наше прошедшее из себя? Какое же сочинение отзовётся посильнее, чем палящие пушки и грозные указы Петра?
Размышляя над этим, он вдруг приподнял крышку чайника и потихоньку втолкнул под неё хлебный шарик, изумился проделке и тотчас прикрыл. Познавая себя, обнаруживая в душе своей множество гадостей, заставлявших стыдиться, краснеть, он пристально сравнивал себя с другими людьми, однако нередко открывал в них ещё большие, ещё мерзейшие гадости, и тогда самомнение, горшая гадость, всплывало и обнажалось в душе. Этого самомнения страшился он пуще всего и с такой страстью его заглушал, что нередко, напротив, до последней крайности сомневался в себе.
А Пушкин поражал его своей необъятностью. Рядом с Пушкиным он представлялся себе заурядным, даже смешным. В присутствии Пушкина ему всегда становилось неловко, так что верные слова приходили с трудом: возражать Пушкину, по его убеждению, было кощунством, хотя с годами он всё чаще ему возражал.
Этим самоуничижением перед Пушкиным он дорожил. Ничего полезнее для его душевного дела быть не могло. Самоуничижение перед Пушкиным не дозволяло глядеть на себя чересчур высоко и зазнаться в душе. В Пушкине находил он вершину, которой, как он искренно сознавал, ему никогда не достичь, как ни желалось достичь и подняться даже выше её. Это чувство подвигало возвышаться над прозой, над мелкими, мерзкими буднями жизни, благодаря этому светлому чувству новые силы прорастали в душе, мысли рождались сильней и богаче, зажигаясь от Пушкина, как от костра.
Всё трудней становилось молчать перед Пушкиным. Он хотел и должен был возразить, однако такое желание представлялось презренной гордыней. Он конфузился, мялся, отводил стыдливо глаза, собирал крошки в ладонь и лепил из них ещё один шарик, не обращая внимания, чем занимался.